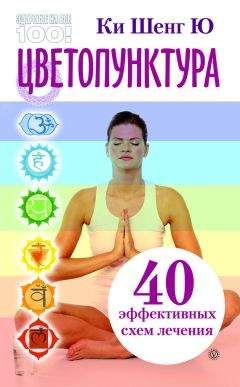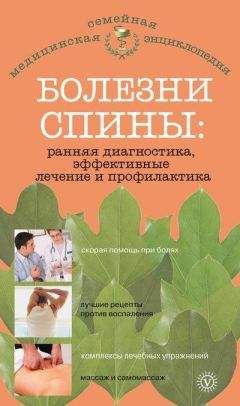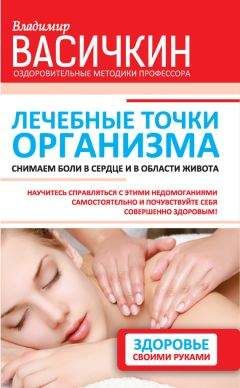Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Новые люди Чернышевского задуманы именно как рассчитанный на массовое воспроизведение тип. В «Что делать?» он всячески настаивает на всеобщности их качеств: «Все резко выдающиеся черты их – черты не индивидуумов, а типа…» Пройдут годы, и «тогда уже не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурой всех людей»[302]. Для Чернышевского создание образцовой человеческой структуры, не только в литературе, но и в жизни, было вполне осознанной задачей, к которой он не раз возвращается в своих письмах. В 1858 году Чернышевский писал Добролюбову: «Мы с вами, сколько теперь знаю вас, люди, в которых великодушия, или благородства, или героизма, или чего-то такого, гораздо больше, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами и т. д. Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх, – точно певец, который запел слишком высокую арию…»[303] Чернышевский настаивает здесь на праве идеолога служить образцом массового поведения, несмотря даже на слабости и недостатки. В 1862 году, в связи с оскорблением, нанесенным его жене, Чернышевский писал Д. Милютину: «…Мне не прилично прибегать к самоуправству, потому что я должен служить примером в общественной и моей частной жизни»[304].
Новые люди, изображенные в романах Чернышевского, – не столько закрепление жизненных явлений (так у Тургенева), сколько программа поведения. В эту программу Чернышевский охотно включал собственный, автобиографический образ («Что делать?», «Пролог» и др.), образ чудака и мыслителя, беспомощного, бестолкового и мягкого в семейном быту и беспредельно волевого в общественном деле. В этом сочетании качеств все было продумано и все имело идеологический смысл – даже культ жены и безграничное ей подчинение (в домашнем быту) были соотнесены с актуальнейшими тогда проблемами освобождения женщины.
Чернышевский совершенно сознательно разрабатывал роль, строил образ, нужный для того, чтобы «служить примером молодому поколению». Под конец жизни он даже подчеркивал, что не все в этом построении следует понимать буквально. В письме 1888 года к К. Солдатенкову Чернышевский говорит об автобиографическом герое своей повести «Вечера у княгини Старобельской»: «Разумеется, я для забавности рассказа несколько преувеличиваю мои смешные и уродливые качества; но действительно я скряга, я не умею держать себя в обществе, у меня дикие манеры. И однако же, если вы прочтете дальше, вы увидите, что этот дикий человек, не умеющий сам ступить шагу без смешных неловкостей, этот кабинетный труженик знает жизнь как немногие и в серьезных случаях не смущается ничем, готов на все, и ловко ли, не ловко ли, но успешно ведет дело, как надобно для любимых им людей…» Далее, в том же письме, Чернышевский от себя в литературе переходит к себе в жизни: «Вы знаете, каков у меня характер на самом деле. Я мягок, деликатен, уступчив – пока мне нравится забавляться этим. Но – женщине ли держать меня в руках? Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра; я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся»[305]. Чернышевский уточняет: эти люди – Герцен и Некрасов.
Чернышевский сознательно искал форму для воплощения автобиографических и автопсихологических концепций, но это отнюдь не была однопланная форма «нигилизма» 60-х годов. Термин этот пришел из романа Тургенева и очень быстро и широко распространился в литературе и в жизни.
Литература и действительность взаимодействуют. Литература закрепляет явления действительности и возвращает их ей уже в осознанном и структурном виде – для дальнейшего воспроизведения. А для этого очень важно найти термин. Иногда закрепляющий термин – это имя действующего лица.
В четвертой части «Идиота» Достоевский писал: «Писатели в своих романах и повестях большею частию стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, – типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком и которые тем не менее почти действительнее самой действительности.
Подколесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются».
В 1862 году общество узнало, что новый человек называется Базаровым[306]. Это решающий, поворотный момент – была предложена законченная модель, на которую впредь будут равняться жизненные явления. Но именно основоположники движения 60-х годов не захотели узнать в ней себя и своих. Исторический счет десятилетиями условен, и шестидесятники сложились еще в 50-х годах. Люди этого поколения вышли на свое поприще, еще не зная о том, что они нигилисты, не призывая к окончательному разрыву с духовным наследием прошлого.
В «Что делать?» Рахметов прямолинеен, но Рахметов не массовый тип, Рахметов – уникальная схема вождя революции. Лопухов, Кирсанов – предложенные Чернышевским образцы будущего массового типа – мягче, эмоциональнее Базарова.
В дневниках молодого Чернышевского отчетливо видно стремление выработать из себя самого нового человека, с новым, разумным отношением ко всем явлениям жизни. Но в них вовсе нет «твердокаменности», – они ведь в значительной мере посвящены первой фазе любви, на всю жизнь захватившей Чернышевского. В дневниках Добролюбова есть и романтический элемент (особенно в самых ранних), много самоанализа и рефлексии, наследия 40-х годов. Рефлексии, осложненной специфическими социальными коллизиями разночинца.
Для Чернышевского Добролюбов был идеалом нового человека, и после смерти Добролюбова он защищает его образ против стандартов нигилизма. Замечательны в этом отношении некролог (1861) и особенно «Материалы для биографии Добролюбова» (1862). В «Материалах» Чернышевский, изображая Добролюбова, подчеркивает рефлексию, противоречия, душевную сложность, особенно же нежность и все истинно человеческие начала этой натуры. Возможно, что это сознательная полемика с Тургеневым. Добролюбов – не Базаров, и это хорошо[307].
Революционные демократы 50-х – начала 60-х годов примеривали Базарова к сложным, изнутри им знакомым процессам становления нового общественного сознания – и нашли его непохожим. Антонович, на страницах «Современника» яростно выступивший против Базарова, не увидел противоречий, заложенных Тургеневым в этот образ. Но то, что усложняло Базарова, не захотел увидеть и Чернышевский.
В посвященной экономическим вопросам статье 1862 года «Безденежье» (она не была напечатана) Чернышевский говорит мимоходом: «Но вот – картина, достойная Дантовой кисти, – что это за лица, исхудалые, зеленые, с блуждающими глазами, с искривленными злобной улыбкой ненависти устами, с немытыми руками, с скверными сигарами в зубах? Это – нигилисты, изображенные г. Тургеневым в романе „Отцы и дети“. Эти небритые, нечесаные юноши отвергают все, все: отвергают картины, статуи, скрипку и смычок, оперу, театр, женскую красоту – все, все отвергают, и прямо так и рекомендуют себя: мы, дескать, нигилисты, все отрицаем и разрушаем»[308].
Зато приветствовал Базарова Писарев, человек другого исторического склада. Нисколько этого не скрывая, он захотел сделать из него образец для новых людей в своем, писаревском, понимании. В статье «Реалисты» Писарев говорит прямо, что публике дела нет до Тургенева и его романа, а есть дело до тех жизненных явлений, которые породили Базарова[309].
Вопреки тому, что утверждали сотрудники «Современника», Тургенев вовсе не хотел унизить и развенчать Базарова. Тургенев сам отчасти путался в этом характере, он спасал человеческое в Базарове противоречиями, непоследовательностью. Писарев, соответственно своим задачам, привел эту структуру в порядок. А заодно принял оскорбившую Чернышевского грубость Базарова, его жесткий утилитаризм. Так возникает формула базаровщины, пригодная для массового распространения.
В статье «Еще раз Базаров» (1868) Герцен писал: «Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет. Важно то, что он в Базарове узнал себя и своих и добавил, чего недоставало в книге. Чем Писарев меньше держался колодок, в которые разгневанный родитель старался вколотить упрямого сына, тем свободнее перенес на него свой идеал»[310].