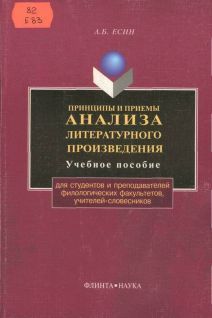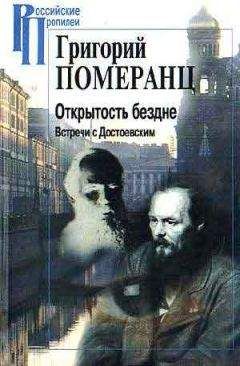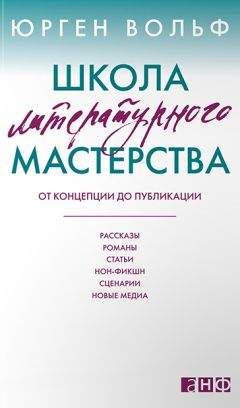Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
167
См. об этом подробнее: [Ранчин 1994в]. Переиздано в кн.: [Ранчин 1999а], также включено в настоящую книгу.
168
Ср.: «<…> [Градостроительная политика русских князей уже в христианский период как бы продолжала библейскую тему обретения и обустройства Русской земли как сакрального пространства: ср. основание в крайних пределах древнерусской колонизации городов Владимира Волынского на юго-западе и Владимира на Клязьме на северо-востоке с их Успенскими соборами, очевидно, воспроизводящими первый русский собор, построенный князем Владимиром, — Десятинную церковь и прочие „киевские реалии“, и с ними — реалии „второго Царьграда“ и, конечно, „второго Иерусалима“ (ср., опять-таки в крайних пределах Древнерусского государства Юрьев на Роси, Юрьев в земле чуди и Юрьев Польской и т. п.)» [Петрухин 1998а. С. 27].
169
Такое символичное совпадение подозрительно, а свидетельство, что последняя битва Ярослава Мудрого со Святополком произошла на Альте, исторически именно поэтому небесспорно. Об этом говорил А. В. Назаренко во время обсуждения моего доклада о пространственной структуре в Сказании о Борисе и Глебе на конференции «Восточная Европа в древности и Средневековье: Время источника и время в источнике» (XVI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто, Москва, Институт всеобщей истории РАН, апрель 2004 г.). Недавно Н. И. Милютенко привела серьезные аргументы, обосновывающие противоположную идею: местом гибели Бориса стали считать реку Альту, потому что на ней позднее, в 1019 г., Ярослав Мудрый, выступающий в роли мстителя за братьев, нанес окончательное поражение Святополку. (См.: [Святые князья-мученики 2006. С. 45–47, 93–94]).
Восприятие места убиения Бориса как символического засвидетельствовано в летописном известии об утверждении мира между князьями-«дуумвирами» Вячеславом Владимировичем и Изяславом Мстиславичем, с одной стороны, и Юрием Долгоруким — с другой (1151 г.). Крестоцелование происходит в день памяти святых братьев (24 июля старого стиля) на месте гибели старшего из них. «<…> [К]лятва, данная в день гибели святого Бориса и на том самом месте, где произошло злодейское убийство, должна была соблюдаться особенно строго — ее нарушитель вполне мог уподобиться окаянному клятвопреступнику и братоубийце Святополку» [Карпов 2006. С. 253–254].
170
На эту параллель между летописной повестью 1019 г. и 2 Книгой Маккавейской (гл. 9) указал Г. М. Барац [Барац 1924–1926. Т. 2. С. 178]. Как указал мне В. Я. Петрухин при обсуждении моего доклада по теме настоящей статьи, описание бегства Святополка могло быть, в частности, навеяно описанием бегства и смерти Антиоха Епифана в переводной Хронике Георгия Амартола (Кн. 7, гл. 109). Ср.: [Истрин 1920. С. 202–203].
Недавно И. Н. Данилевский указал, что текстуально сообщение Сказания о Борисе и Глебе о судьбе Святополка ближе к Библии (2 Мак. 9:1–2, 4–18, 28), чем к Хронике Георгия Амартола (ссылки на книгу Г. М. Бараца в статье И. Н. Данилевского нет). См.: [Данилевский 2005. С. 283–289, 403, примеч. 69]. Здесь же — об осмыслении Святополка как «подобника» Антихриста по аналогии с Антиохом IV Епифаном, послужившим одним из «прототипов» Антихриста в раннехристианской традиции.
Соображения И. Н. Данилевского любопытны, но спорны. Во-первых, не очевидно, что в Киевской Руси XI — начала XII в. сохранялась память об Антиохе Епифане как одном из «прообразов» Антихриста и что эти ассоциации для древнерусских книжников сохраняли значимость. Во-вторых, поскольку книги Маккавейские были переведены на церковно-славянский впервые только для т. н. Геннадиевской Библии 1499 г. и поскольку «эти книги и части книг были неизвестны славянской рукописной традиции» [Алексеев 1999б. С. 197], прямое сопоставление библейского текста и Сказания о Борисе и Глебе некорректно. Если И. Н. Данилевский отрицает, что описание бегства и смерти Святополка навеяно известиями Хроники Георгия Амартола, ему необходимо указать другой источник (восходящий к 2 Мак. 9 и точнее, чем Амартол, передающий известия текста этой книги), который мог быть знаком древнерусскому книжнику.
171
См.: [Карпов 2001. С. 176–177]. А. Ю. Карпов впервые указал на соответствие повествования о бегстве Святополка Окаянного речению Книги Притчей Соломоновых. Смерть Святополка также соотнесена со смертью Иуды [Мусин 2006. С. 277].
172
Ср. восприятие пустыни в иудейской традиции, в раннем христианстве и восприятие пустыни и леса на средневековом Западе: [Ле Гофф 2001. С. 85–104].
173
А. В. Маркову принадлежит наблюдение, что выражение «межю Чехы и Ляхы» — старинная поговорка, означающая «где-то далеко». Он же указал, что эта поговорка сохранилась в говорах Архангельской губернии [Марков 1908. С. 454]. О толкованиях этого выражения см. также: [Ильин 1957. С. 43–44, 156]; [Демин 1996. С. 129].
О семантике места погребения Глеба и места смерти Бориса см. также: [Успенский 2000. С. 37]. Соображения Б. А. Успенского во многом совпадают с моими (настоящая статья была написана до выхода в свет книги Б. А. Успенского).
В реальности Святополк, видимо, умер несколько позже и не в межграничье, а либо в пределах Русской земли (в Берестье) либо в Польше. См. сводку данных об этом и их анализ в кн.: [Карпов 2001. С. 178–179].
Символический смысл смерти Святополка за пределами Русской земли отмечал Ю. М. Лотман, резюмировавший: «Исход путешествия (пункт прибытия) определяется не географическими (в нашем смысле) обстоятельствами и не намерениями путешествующего, а его нравственным достоинством» [Лотман 1996. С. 246]. Ср. у В. Н. Топорова: «Само пространство определяется через совокупность пунктов, которые могут находиться в нем (сам же путь в значительной степени соотносится с типом персонажа, который может являться субъектом пути)» ([Топоров 1983а. С. 271]; ср. с. 269–270 — о символическом значении движения в пространстве, пути). О противопоставлении пространства (того, что структурировано и осмысленно) и не-пространства (хаоса): «Кроме пространства, существует еще не-пространство, его отсутствие, воплощением которого является Хаос <…>»; «<…> складывается оппозиция: пространство в Космосе (в центре) — отсутствие пространства в Хаосе, занимающем по отношению к Космосу пространственно периферийное положение» [Топоров 1983а. С. 234].
Трудно сказать, обладает ли земля между двумя католическими странами в Сказании о Борисе и Глебе семантикой земли «грешной». (Окончательное разделение церквей произошло в 1054 г., а Сказание, по-видимому, было написано после этого события; впрочем, известие о смерти Святополка «межю Чехы и Ляхы» могло содержаться в тексте-источнике Сказания.) Подобное восприятие католических земель, Запада отличало культурное сознание Московской Руси, но до XIV в. устойчивое негативное отношение к латинскому Западу, кажется, не было в Древней Руси общепринятым [Флоря 2000. С. 717–724]. Ср.: «Ряд показательных деталей говорит о далеко заходившей взаимной терпимости и уважении к духовным ценностям другой стороны. Прежде всего, здесь следует сказать о чувстве общехристианской солидарности»; «На протяжении второй половины XI–XII вв. конфессиональное противостояние Рима и Константинополя было перенесено и на славянскую почву, но на данном этапе развития оно было характерно прежде всего для отношения друг к другу некоторых кругов славянского духовенства обеих конфессий. Такое противостояние не охватывало, однако, всего общества. Отношения между светскими верхами общества Древней Руси и ее западных соседей, в особенности, отличались взаимной заинтересованностью, терпимостью, отсутствием конфессиональной предвзятости. Неслучайно в ориентированных на интересы именно этой социальной среды исторических сочинениях мы вовсе не находим выпадов против православной и католической веры. В сфере ее жизни, связанной с религией, широко использовались сакральные предметы из чужого мира» [Флоря 2004. С. 22, 24–25].
Впрочем, в Сказании могло быть отражено отношение к Западу, свойственное монашеской культуре Древней Руси, а в монашеской среде восприятие «латинских» стран было менее терпимым, чем, например, в княжеских и придворных кругах. Ср.: «несмотря на раскол церквей в 1054 г., отношения православных с их католическими славянскими (и неславянскими) соседями в целом определяла взаимная терпимость. Однако можно отметить, что уже в то время между состоянием этих отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе существовали определенные отличия. В кругах древнерусского православного духовенства и, соответственно, в кругах духовенства западных соседей Руси уже и в то время религиозная нетерпимость к представителям другой конфессии получила вполне определенное выражение, хотя во второй половине XI–XII вв. такая ориентация еще не могла подчинить себе все общество и серьезно повлиять на развитие отношений между соседними государствами» [Флоря 2004. С. 213].