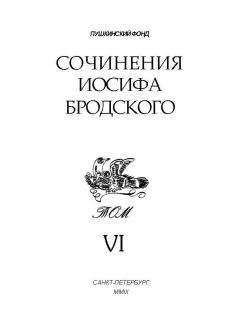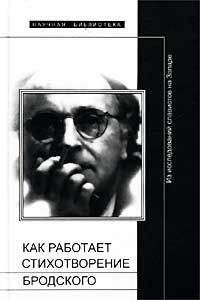Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Сам Бродский неоднократно говорил о своей особой любви к этому стихотворению. Оно названо в числе любимых, например, в интервью Еве Берч и Дэвиду Чину[26]. Можно предположить, что особая значимость ПДМ в сознании Бродского была связана с отношением к этому стихотворению одного из самых авторитетных для него людей — Геннадия Шмакова. Указание на это содержится, к примеру, в книге Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»: «<Шмаков> первый, кто меня и убедил, что это <ПДМ> — хорошее стихотворение. У меня-то на этот счет были всякие сомнения»[27]. Или в интервью, данном в 1990 году Юрию Коваленко: «Оно нравится двум или трем моим знакомым, одного из которых <Шмакова> уже нет в живых»[28]. Но, помимо сугубо личностной мотивировки, любовь поэта к ПДМ может обосновываться, на наш взгляд, еще и другой, уже сугубо внутрилитературной причиной. Стихотворение создано в тот период творчества Бродского (вторая половина 1970-х годов), когда поэт, по его словам, «начал медленно двигаться к чему-то вроде акцентного стиха, подчеркивая силлабический, а не силлабо-тонический элемент, возвращаясь к почти тяжеловесной, медленной речи»[29].
Можно предположить, что ПДМ стали одной из главных вех на пути этого перехода к классическому «позднему» Бродскому; во всяком случае, в уже упомянутом интервью Ю. Коваленко поэт, говоря о ПДМ, счел нужным специально подчеркнуть просодическую специфику этого текста, приводя в числе причин своей особой любви к нему прежде всего такую: «В этом стихотворении несколько иная поэтика и, кроме того, в нем употреблена другая каденция»[30].
Композиционно ПДМ представляет собой диптих, состоящий из равных по объему (16 строк), но тематически, интонационно, метрически, в плане рифмовки отличающихся друг от друга стихотворений. Первое, «Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки…», четко выдержано в духе «женской маски», второе, «Дорога в тысячу ли начинается…» — в духе маски мужской. Такая структура позволяет соотнести ПДМ еще с одним диптихом Бродского — стихотворением «Дебют» (1970), также построенном как пара «женское — мужское» с соблюдением принципа равнострочности. В то же время налицо и несомненное различие между не столь уж отдаленными друг от друга во времени текстами. «Дебют» (далее — Д) представляет собой две картины мира, рождающиеся после основного события — утраты девственности. Написанные пятистопным ямбом обе части диптиха носят повествовательный характер и призваны подчеркнуть не столько даже эмоциональную, сколько метафизическую разницу в отношении героев к приобретенному опыту. В «женской» части главным становится расширение чувственной картины мира: «Она лежала в ванне, ощущая / всей кожей облупившееся дно», «…еще одно / отверстие, знакомящее с миром»[31]. «Мужская» часть пронизана прежде всего чувством растерянности, неготовности к новому опыту: «он вздрогнул», «и почему-то вдруг с набрякших губ / Слетела ругань», «Он покраснел и, осознав нелепость, / так удивился собственному рту», «ошеломленный первым оборотом»[32]. В целом же обе части Д близки друг другу и выдержаны в едином семантическом и стилистическом ключе.
ПДМ же — гораздо более сложная конструкция, части которой лишь внешне сходны между собой. Хотя в основе диптиха тоже лежит гендерный параллелизм, на деле соотнесенность частей никак не сводится только к различию позиций. Целесообразным представляется поэтому вначале проанализировать обе части по отдельности, а затем рассмотреть принципы, по которым образуется целое.
1.1. Доминанта первой части (в дальнейшем — ПДМ 1) — пове-ствовательность. События соотнесены с жизнью при императорском дворе Китая и представляют собой перечисление признаков упадка, оскудения, распада. Зачином выступают первые пять строк, вводящие в качестве одного из главных семантических кодов стихотворения сказку Андерсена «Соловей». Значимость Андерсена в художественном сознании Бродского достаточно велика. В посвященном Мандельштаму эссе «Сын цивилизации», ссылаясь на неназванную «Дюймовочку», он считает нужным добавить: «Каждый школьник в России знает эту сказку»[33]. «Соловей» же присутствует в стихотворении «Колыбельная Трескового Мыса»: «Соловей говорит о любви богдыхану в беседке»[34].
Для ПДМ Бродский выбирает из андерсеновской сказки следующие смысловые конструкции: противопоставление живого и механического соловьев; бегство соловья из дворца; заводной соловей, убаюкивающий своим пением императора (у Бродского — «богдыхана»). Но при этом андерсеновские темы и тональность перерабатываются, последовательно приобретая гораздо более жесткую и мрачную окраску. Если у Андерсена соловей живет при дворе в «особой комнатке», два раза в день гуляет на свободе (при этом двенадцать слуг держат его за привязанные к лапке шелковые ленточки), то Бродский избавляется от иронических парафраз, вводя прямой образ клетки. Освобождение живого соловья и его бегство — смысловой зачин ПДМ 1, задающий его главную тему — упадка и оскудения мира, из которого уходит искусство, по Бродскому, как известно, играющее конституирующую роль в человеческом существовании. В развитии этой темы Бродский, как уже указывалось, наполняет андерсеновский мотив немыслимыми в тексте датского автора френетическими деталями:
И, на ночь глядя, таблетки
богдыхан запивает кровью проштрафившегося портного.
Заметим, что упоминание о портном может содержать отсылку к еще одной андерсеновской сказке — «Новое платье короля».
1.2. Продолжая «андерсеновский» сюжет, Бродский говорит о «ровной песне» заводного соловья, погружающей богдыхана в сон. Так в ПДМ входит один из ключевых мотивов — обездушивание мира как один из симптомов его упадка. Помимо заводного соловья с его механическим пением, этот мотив реализован еще и в концовке: «Почему-то вокруг все больше бумаги, все меньше риса» (замена жизни ее имитацией; одно из распространенных в литературе значений образа бумаги — торжество формализма, мертвого подобия реальности, стремящегося ее вытеснить — параллель с заводным соловьем). Другие вариации мотива оскудения мира:
Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной
невеселые, нечетные годовщины.
Наш маленький сад в упадке;
Специальное зеркало, разглаживающие морщины,
каждый год дорожает.
Одно из значений этой реализации — нежелание замечать упадок, стремление искусственным путем убедить себя в неизменности мира. Кульминационным же в этом ряду становится образ неба:
Небо тоже исколото шпилями, как лопатки
и затылок больного (которого только спину
мы и видим).
Небо предстает больным и отвернувшимся от человека, который, в свою очередь, забыл о его значимости и не в состоянии с должным уважением относиться к высокому. Во всяком случае, так можно истолковать следующие строки:
И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки.
1.3. В стихотворении дважды употреблено слово «богдыхан», отсутствующее в сказке Андерсена (по крайней мере, в ее русских переводах), где соответствующий персонаж именуется императором. Это слово, образованное от монгольского «богдо-хан» («священный государь»), традиционно употреблялось в России применительно к китайским правителям монгольской династии Цин; династия же Мин (1368–1644) является автохтонной. Отметим, что и название династии дано у Бродского в форме, не встречающейся в отечественной традиции: Минь место Мин. Рискнем предположить, что в данном случае Бродский конструирует этот вариант по аналогии с названиями других династий, традиционно оканчивающимися мягким знаком (Юань, Хань, Цзинь, Цинь). Тем самым мир стихотворения лишается однозначной исторической привязки, приобретая характер некоего обобщенного «Китая». Этому же призвано способствовать и употребление разных терминов для титулатуры: «богдыхан», но тут же — «императрица». В результате возникает вневременной образ восточной империи; напомним, что в сознании Бродского с его четко выраженными полярностью и западническим уклоном Восток традиционно символизирует рабство и угнетение. Наиболее полно этот комплекс воззрений развит в эссе 1985 года «Путешествие в Стамбул» с его ультимативной формулировкой: «Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии»[35]. Любопытно отметить существующую, на наш взгляд, перекличку между этим эссе и ПДМ: «механические чудеса… византийский государь заимствовал на Востоке»[36] — тем самым в образ Востока вносится такой штрих, как пристрастие к механической подмене живой жизни, идущее бок о бок с хладнокровной повседневной жестокостью. Подчеркнем: в ПДМ Бродский, по-видимому, менее всего стремится к какой бы то ни было стилизации; его образ Китая — это Китай глазами человека западной культуры — отсюда «андерсеновская» призма, отсюда намеренное нагромождение стереотипных «китайских примет» (Поднебесная, тушь, рисовая тонкая бумага, рис), которые в действительной стилизации будут либо вообще отсутствовать, либо встречаться в гораздо меньшем количестве. К числу косвенных «западных» признаков можно отнести и имя героини — Дикая Утка; с одной стороны, оно вписывается в традицию дословного перевода некоторых имен из китайских текстов, с другой — может содержать аллюзию на одноименную пьесу Ибсена. Таким образом, мир ПДМ 1 — мир вдвойне порочный: в силу своего «восточного» происхождения и в силу общего движения к упадку. Двойная же оптика, соединяющая «западный» взгляд и свидетельство изнутри, позволяет зорко фиксировать одну за другой приметы распада, избегая прямой оценочности (за исключением сочетания «невеселые… годовщины»).