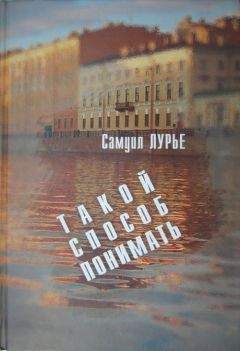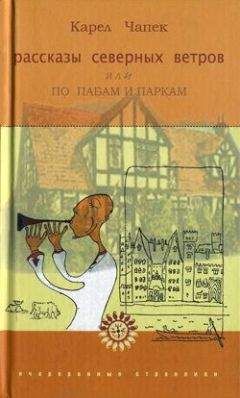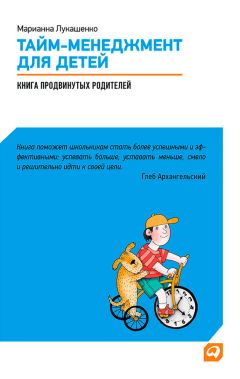Самуил Лурье - Книги нашего детства
Работа над сказкой растянулась, и это пошло на пользу «Крокодилу»: вместо момента возникновения замысла в сказке отразилось время ее создания – ряд последовательных и связанных друг с другом исторических моментов. Третью часть сказки, вместившую в себя призыв к миру и мечту о «золотом веке», Чуковский сочинял летом 1917 года. 1 мая он занес в дневник: «Дела по горло: нужно кончать сказку, писать „Крокодила“, а я сижу – и хоть бы слово…»[57] Несколько позже он сообщал из Куоккалы в Петроград сотруднику журнала «Для детей» А. Е. Розинеру: «Посылаю Вам начало третьей части „Крокодила“, который усиленно пишется. Я трачу на „Крокодила“ целые дни, а иногда в результате две строчки…»[58]
В том же письме есть такое место: «Ре-Ми жалуется, что у него нет звериных фотографий, трудно рисовать. Нет ли у Вас слонов, тигров и т. д.?»[59] Значит, уже тогда, в пору журнальной публикации «Крокодила», автор работал вместе с художником – добывал для него звериные «типажи», например.
Художник Ре-Ми – «замечательный карикатурист – с милым, нелепым, курносым лицом»[60] – был давнишним знакомым Чуковского, как и большинство группировавшихся вокруг «Сатирикона» талантливых рисовальщиков, поэтов, фельетонистов. Один из них, художник и стихотворец А. Радаков, оставил выразительную характеристику Ре-Ми:
«Художник Ре-Ми – типичный художник-сатирик. „Обидный художник“, как называл его худ(ожественный) критик А. Бенуа. В нем совершенно отсутствует добродушный юмор… Вместо добродушия в его рисунках злость и ядовитая насмешка. Его мироощущение, в противоположность юмористическому, было чисто сатирическое. Он не щадил своих героев. Он был прокурор… Он очень тонко чувствовал мещанство, убожество людей, мещанскую обстановку, мещанский тип. Наблюдательность у него была развита очень сильно. Даже вещи у него были характерны и имели свое лицо. Положительные типы, так же, как и положительная героика, ему не удавались…»[61]
В этих строчках А. Радаков менее всего имел в виду рисунки Ре-Ми к «Крокодилу», но говорил словно о них. Лучше всего удались художнику те образы, которые провоцировали сатирическое осмеяние, – толпа обывателей на Невском, оголтелые гимназистики, тупые лавочники и приказчики, дикие базарные торговки, балда-городовой. Образы, требующие патетики (Ваня Васильчиков) или лирики (девочка Лялечка), были захлестнуты сатириконской волной и незаконно окарикатурены: «К сожалению, рисунки Ре-Ми, при всех своих огромных достоинствах, несколько исказили тенденцию моей поэмы. Они изобразили в комическом виде то, к чему в стихах я отношусь с пиететом»[62].
Не отказываясь от критики, Чуковский и позднее настаивал на издании «Крокодила» с этими рисунками: «Между тем рисунки Ре-Ми к этой сказке очень хороши…»[63] – все же рисунки Ре-Ми были порождены той же эпохой, что и «Крокодил», и воплощали именно ее. Профессор А. А. Сидоров в обзоре русской графики первых лет революции заметил: «Поразительные по остроте и чисто литературной забавности рисунки дал известный „сатириконец“ Н. Ремизов к „Крокодилу“, подчинив своему стилю даже такого мастера, как Ю. Анненков…»[64]. Со временем, когда изображенный художником быт ушел в прошлое, рисунки приобрели ценность исторического свидетельства. На рисунках Ре-Ми к «Крокодилу» хорошо просматриваются и легко узнаются черты блоковского Петербурга – крендель булочной, фонарь, аптека. Рисунки точно локализовали в исторической эпохе «старую-престарую сказку», как стал называть Чуковский своего «Крокодила» в позднейших изданиях.
Журнальная публикация принесла сказке первоначальную славу и породила спрос. Чуковский вновь пошел читать «Крокодила» в детские аудитории. У детей «Крокодил» неизменно вызывал неслыханный восторг, у взрослых – брюзгливое негодование. Взрослые, между прочим, считали, что негоже серьезному литератору становиться детским писателем. «Мне долго советовали, – вспоминал Чуковский, – чтобы я своей фамилии не ставил, чтобы оставался критиком. Когда моего сына в школе спросили: „Это твой папа «Крокодильчиков» сочиняет?“, – он сказал: „Нет“, потому что это было стыдно, это было очень несолидное занятие…»[65]
В феврале петроградские газеты напечатали объявление о том, что в Театре-студии перед началом детских спектаклей выступает Корней Иванович Чуковский со своей поэмой для детей «Крокодил»[66]. Немного спустя на улицах Петрограда появились афиши:
В воскресение 7-го и 14-го апреля (1919 года)в зале Тенишевского училища (Моховая, 33)забавное утро дляМАЛЕНЬКИХДеревенские сказки прочтет В. К. Устругова,Артистка Госуд. Театровписатель К. И. Чуковский прочтет свою поэму для малюток«КРОКОДИЛ»[67]Тем временем издательство Петросовета выпустило «Крокодила» отдельной книгой. «…Я явился в Смольный, и мне вдруг сказали, что „мы издаем вашего «Крокодила» миллионным тиражом“»[68], – вспоминал Чуковский. «Миллионного тиража», конечно, не было: эта цифра характеризует не реальные возможности издательства, а его отношение к книге. В ту эпоху любые самые утопические предприятия казались осуществимыми, и Чуковскому вполне могли сказать о «миллионном тираже». Среди прочего издательство предприняло выпуск серии «Утопические романы», в которой вышли в свет «Утопия» Т. Мора и «Город солнца» Т. Кампанеллы. И хотя «Крокодил» Чуковского не имел к этой серии ни малейшего касательства, но заметим, как естественно становится в ряд со знаменитыми утопиями сказка, заканчивающаяся картиной утопического «золотого века». Петросовет напечатал пятьдесят тысяч экземпляров сказки – для тех суровых, бесхлебных и безбумажных лет тираж огромный – и одно время (по неоднократно повторенному воспоминанию Чуковского) раздавал «Крокодила» бесплатно.
Сохранился прелюбопытный документ – макет первого отдельного издания «Крокодила», представляющий собой расклейку рисунков Ре-Ми, заимствованных из журнальной публикации. Макет красноречиво свидетельствует о совместной работе писателя и художника над будущей книгой: чуть ли не каждый лист макета испещрен надписями Чуковского. Чуковский корректировал распределение материала по листам, композиционное соотнесение текста и рисунков на листе, симметричное или асимметричное построение листа и разворота, размер рисунков, плотность набора, ширину поля и так далее.
На макете титульного листа между словами, образующими название сказки, Чуковский вписал: «Звери, посреди них Ваня, все смеются. У Вани лицо не карикатурное»[69]. Значит, уже тогда, при подготовке первого отдельного издания «Крокодила», автор не был удовлетворен сатирической трактовкой героического образа в рисунках Ре-Ми.
К двадцать седьмому листу макета относятся такие замечания Чуковского: «Верблюд не ждет, а бежит. Посуда – не только тарелки. Верблюд гораздо ниже! Это клише должно занимать 2/3 страницы и может быть не квадратным, а захватывать весь верх – как показано карандашом. А змеи пойдут в правый угол. Пусть Н. Вл. (Ре-Ми. – М. П.) скомбинирует обе картинки, как ему покажется лучше»[70].
А на листе двадцать пятом, перечислив по пунктам необходимые изменения, Чуковский подвел итог: «Главное в том, чтобы пририсовать две-три фигуры так, чтобы получилось кольцо танцующих, хоровод, см. схему слева».
На схеме слева, к которой отсылает эта надпись, Чуковский набросал композицию рисунка, как он ее себе представлял (звери несутся в танце вокруг елки, кольцом замыкая хоровод), и добавил: «Вообще, побольше вихря»[71]. Предложенная Чуковским «вихревая» композиция – прообраз тех омывающих текст «вихревых» рисунков, которыми нынешние художники передают, например, бегство и возвращение вещей в «Мойдодыре» или «Федорином горе». Несомненно, что «вихревая» композиция наиболее точно воплощает средствами графики бурную динамику «Крокодила», его «глагольность», стремительное чередование эпизодов. «Побольше вихря» стало основным принципом построения сказок Чуковского и рисунков к ним.
В стихотворной сказке Чуковского Ре-Ми сделал замечательное открытие: он открыл в ней (не замеченный, насколько мне известно, никем из критиков «Крокодила») образ автора, образ сказочника – лукавого и простодушного одновременно. Не забудем, что это открытие было сделано в блоковскую эпоху: огромное явление Блока и магическое обаяние его лирики поставили вопрос, на который Тынянов ответил формулой «лирический герой». Совершив открытие, напоминающее отчасти тыняновское, Ре-Ми вывел образ сказочника – изобразил Чуковского, «протяженносложенного» и ел женного, как плотницкий метр, в обществе Крокодила и Вани Васильчикова. Эффектно завершающий сказку, этот шарж неожиданно замкнул важнейшую идейную линию «Крокодила»: перед нами сошлись в мирном чаепитии главные противоборствующие силы сказки – воплощение «дикой природы» и воплощение «цивилизации» – заодно с тем, кто сочинил сказку и «снял» противоречия.