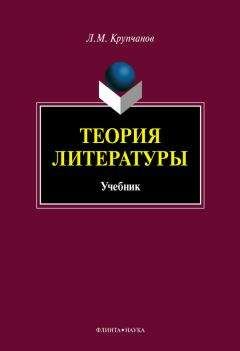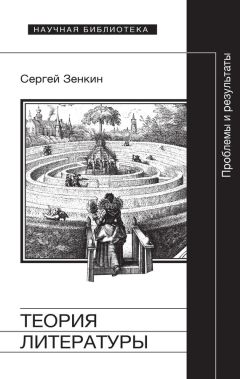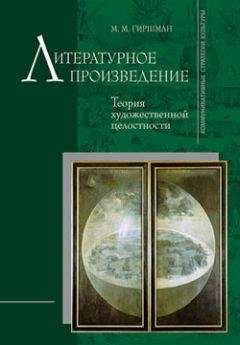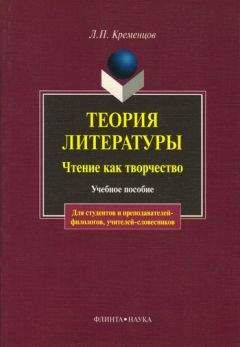Асия Эсалнек - Теория литературы
Как участник диалога человек находится в постоянном развитии, становлении, иначе говоря, пребывает в состоянии неготовности и незавершенности. Отсюда вывод: «Правда о последних жизненных устоях не может быть выяснена в рамках бытия отдельной личности. Правда может быть приоткрыта. Конец диалога был бы равнозначен гибели человечества». Но это не исключает ответственности и «причастного» отношения человека к жизни, к другим. Такая позиция определяется понятием «не-алиби в бытии», а противоположная – понятием «алиби в бытии». Бахтину очевидно была близка первая.
Идея диалогизма в приложении к искусству обнаруживается по-разному. Она проявляется прежде всего в соотношении голосов героев, голосов автора и героев, автора и повествователя, отсюда проистекает «стилистическая трехмерность» романа, а по существу любого повествовательного произведения. Рассуждая о взаимоотношении голосов автора и героев уже в ранней работе о Достоевском, Бахтин говорит о самостоятельности, независимости, неслиянности этих голосов, что приводит к тезису о полифоничности романов Достоевского в отличие от монологичности романов Тургенева и Толстого (подробнее о бахтинской концепции романа – в разделе о жанрах, гл. 3).
Более обобщающий, концептуальный характер эти мысли приобретают в трактате «Автор и герой в эстетической деятельности», вошедшем в книгу «Эстетика словесного творчества», где развивается мысль о соотношении позиции автора и героев в разных жанрах – повести, романе, исповеди, автобиографии, житии и т. д. Ядро этой мысли заключается в том, что позиция автора предполагает восприятие другого как другого. Условием этого является вненаходимость, что не означает индифферентности, а, наоборот, требует причастности и художественной заинтересованности. «Эта вненаходимость позволяет художественной активности извне объединять, оформлять и завершать событие»; «Автор должен находиться на границе создаваемого им мира, ибо вторжение в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость (Бахтин, 1979, 166). «Оба они – герой и автор – другие и принадлежат одному и тому же авторитетно ценностному миру других» (Там же, 143).
Здесь как бы сходятся две мысли: о самостоятельности героев, относительной дистанцированности их от автора (все они – другие) и в то же время о завершающей функции автора. «Сознание героя, его чувства и желания мира со всех сторон, как кольцом, охвачены завершающим сознанием автора о нем и о мире» (Там же, 14). Завершение есть свидетельство эстетической деятельности, создающей эстетический продукт.
Эстетический продукт включает в себя ценностный смысл, т. е. прежде всего познавательные и этические аспекты позиции героя: «Для эстетической объективности ценностным центром является целое героя и относящегося к нему события, которому должны быть подчинены все этические и познавательные ценности; эстетическая объективность включает в себя познавательно-этическую» (Там же, 15). Конечно, автор – творец, но «видит свое творение только в предмете, который он оформляет… он весь в созданном продукте». «Найти существенный подход извне – вот задача художника» (Там же, 166).
Подобных суждений в работах Бахтина очень много, они свидетельствуют о стремлении осознать отношения автора и героя и тем самым определить наиболее существенные особенности художественного произведения и искусства в целом. А все эти особенности проистекают из диалогизма, который Бахтин считал неотъемлемым принципом жизни вообще и искусства в частности.
Настойчивое утверждение диалогизма было обусловлено оценкой состояния человеческого общества на разных этапах его существования, но особенно в современную эпоху, которую, опираясь на терминологию Бахтина, стали называть монологической вследствие преобладания разного рода авторитаризма и отсутствия в достаточной мере личностной свободы. «Монологизм в пределе отрицает вне себя другого и ответно-равноправного сознания, другого равноправного я (ты). При монологическом подходе (в предельном или чистом виде) другой всецело остается только объектом сознания, а не другим сознанием. От него не ждут такого ответа, который мог бы все изменить в мире моего сознания. Монолог завершен и глух к чужому ответу и не ждет его и не признает за ним решающей силы. Монолог обходится без другого. Монолог претендует быть последним словом» (Там же, 318). Отсюда постоянное привлечение внимания к диалогизму и апелляция к нему при объяснении не только жизни, но и искусства. А при определении и обозначении художественной деятельности и ее «продукта», как уже было отмечено, активнейшим образом используется понятие эстетическое в разных его вариациях и ракурсах: эстетическая деятельность, эстетическая реакция, эстетический объект, эстетическая любовь, эстетическая индивидуальность, эстетическое видение и т. п. Тем самым термин «эстетическое» как бы вновь стал обретать свои права в науке о литературе, хотя понятия «идеолог» и «идеологическое» отнюдь не были чужды и Бахтину.
Что касается термина, обозначающего объект художественно-эстетического анализа, то М.М. Бахтин активно пользовался понятием «произведение». Он обратил внимание на трансформацию понятия текст, по поводу чего в своих рабочих записях 50—60-х годов отмечал: «Если понимать текст широко – как всякий знаковый комплекс, то и искусствоведение (музыковедение, теория и история изобразительных искусств) имеет дело с текстами (произведениями искусства)» (Бахтин, 1996, 306). Значит и ему не был чужд семиотический подход к литературе.
Начиная с 70-х годов теоретические знания в нашей стране стали расширяться и за счет появления реферативных изданий, содержавших изложение, хотя и сугубо критическое, тех или иных зарубежных концепций в области литературоведения. В их числе четыре выпуска труда «Теории, школы, концепции. Критические анализы» (М., 1975–1977); сборники статей: «Зарубежное литературоведение 70-х гг.» (М., 1977); «Структурализм: ЗА и ПРОТИВ» (М., 1975); «Семиотика» (М., 1983); «Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX – ХХ вв.» (М., 1987). В 1978 г. Была переведена «Теория литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена, впервые опубликованная в США в 1949 г.
С конца 80-х годов начали публиковаться переводы оригинальных работ зарубежных авторов, в числе которых были работы Р. Барта (Барт, 1994), К. Леви-Стросса (Леви-Стросс, 1994) и др. В последние 20 лет в научном обиходе российских литературоведов появилось немалое количество зарубежных исследований теоретического характера, в числе которых, помимо трудов Барта, работы Ц. Тодорова (Тодоров, 1999, 2001), Ю. Кристевой (Кристева, 2004), Ж. Женетта (Женетт, 1998), Я. Мукаржовского (Мукаржовский, 1994, 1996), Ж. Деррида (Деррида, 2000), А. Компаньона (Компаньон, 2001), Н. Пьеге-Гро (Пьеге-Гро, 2008). Кроме того, следует отметить книгу «Западное литературоведение XX в. Энциклопедия» (М., 2004. Гл. ред. Е.А. Цурганова).
Стало известно о существовании немалого количества научных течений и направлений в литературоведении разных стран. Методически убедительный обзор таких направлений можно найти в статье Е.А. Цургановой, помещенной в учебном пособии «Введение в литературоведение. Хрестоматия» (М.: Высшая школа, 2007). В числе ведущих научных направлений автор выделяет американскую «новую критику», функционировавшую в разных вариациях, германскую феноменологию, герменевтику и рецептивную эстетику, французскую «новую критику», объединившую несколько течений.
В русских условиях наиболее востребованными оказались исследования структуралистской, а затем постструктуралистской ориентации. Многие зарубежные исследователи этой ориентации связывают свою родословную с русским формализмом 20-х годов, а также со славянским (чешским) структурализмом 30-х годов, представленным в свое время трудами чешских ученых Я. Мукаржовского, Б. Гавранека, Ф. Трнки, Р. Уэллека, а также работавших в то время в Праге Р. Якобсона, П. Богатырева, Н. Трубецкого и некоторых других. В рамках этих течений сформировались понятия литературности, структуралистское понятие Текста, затем постструктуралистское, деконструктивистское понимание текста, интертекста и ряда других.
Серьезное освещение и научное осмысление данных концепций и подходов, их формирования и функционирования на русской почве получило в работах Г.К. Косикова «От структурализма к постструктурализму» (1998), И.П. Ильина «Постмодернизм» (1998), М.Н. Липовецкого «Русский постмодернизм» (1997), И.С. Скоропановой «Русская постмодернистская литература»(1999)и др.
Современные подходы к изучению литературы в русской науке
Расширение горизонтов научной мысли не освободило российских ученых от дальнейших поисков методологических подходов и осмысления теоретических понятий, необходимых исследователям, студентам и преподавателям. Наиболее продуктивны в этом плане собственно научные (Борев, 2003) и учебно-методические работы высокой научной значимости. Автор одной из них, В.Е. Хализев, подчеркивает важность того, «чтобы теоретическое мышление впитало в себя как можно больше живого и ценного из разных научных школ… сейчас не надо отдавать себя в плен иного рода монистическим построениям, будь то культ чистой формы либо безликой структуры, или «постфрейдистский сексуализм», или абсолютизация мифопоэтики и юнговских архетипов, или, наконец, сведение литературы и ее достижений (в духе постмодернизма) к ироническим играм, разрушающим все и вся» (Хализев, 2002, 10).