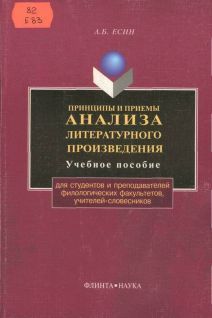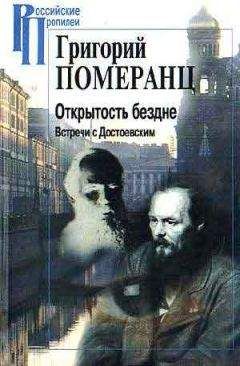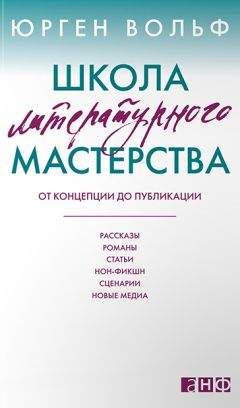Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
Как святость Бориса и Глеба в Борисоглебской агиографии рассматривается в качестве проявления и свидетельства избранности рода Владимира Крестителя (ср. о мотиве «рода праведных» в Сказании: [Picchio 1977. Р. 15–16]; ср.: [Пиккио 2003. С. 448–449]), так и их подвиг, описанный в житиях, может интерпретироваться как продолжение христианизации страны, как новое, более глубокое постижение истин христианской веры (Владимир, правда, еще будучи язычником, в отличие от Бориса и Глеба пошел войною на старшего брата, Ярополка, Святополкова отца).
Б. А. Успенский обратил внимание на устойчивую соотнесенность Владимира, Бориса и Глеба, прослеживающуюся, в частности, в житиях равноапостольного князя, в службах крестителю Руси, в Житии Александра Невского. См.: [Успенский 2004. С. 72–75].
Параллель к этой ситуации из скандинавской традиции: в ней Олав Святой, принявший смерть от руки подданных спустя 15 лет после Бориса и Глеба, рассматривался как духовный преемник крестителя Норвегии Олава Трюггвасона [Лённрот 2000. С. 210–218]; [Джаксон 2000. С. 57–58].
150
[Revelli 1993. Р. 392]. Далее Сказание цитируется по этому изданию, страницы указываются в тексте статьи. Ср.: [Жития 1916. С. 49].
151
О статусе Вышгорода в Киевской земле см., в частности: [Насонов 2002. С. 51–53].
152
Выражение «межю Чехы и Ляхы» может быть истолковано не как указание на конкретное место, а как поговорка, означающая «нигде», «в незнаемой земле», «в пустом, выморочном месте». См.: [Флоровский 1935. С. 46]. Ранее на возможность такого понимания указал А. В. Марков [Марков 1908. С. 454].
153
Семантика имени «Ярополк» (сема «ярость», «ярый»), возможно, значима для составителя Сказания, так же, как и прошлое Ярополка — участие в междоусобных распрях и виновность в гибели брата; Владимир искупает его убийство, принимая крещение.
154
Ср. замечание А. Ю. Карпова: «В отличие от Бориса и Глеба князь Святослав не был причтен Церковью к лику святых. Трудно сказать, чем это объясняется: обстоятельствами ли его гибели или (что кажется более вероятным) тем фактом, что его останки так и не были найдены и затерялись где-то в Карпатах» [Карпов 2001. С. 113].
155
В данном отношении пространство в архаическом (нерационалистическом) восприятии подобно пространству в художественной литературе. Ср.: «Пространство не образуется простым рядоположением цифр и тел <…>… [П]онятие пространства не есть только геометрическое» [Лотман 1988. С. 274]. Впрочем, пространство как таковое в восприятии человека Нового времени не является чисто геометрическим, «пустым» и абстрактным; оно антропоморфизировано, определяется восприятием человека и предметами, его заполняющими и конструирующими. Такое восприятие засвидетельствовано, в частности, данными современного русского языка. См.: [Яковлева 1994. С. 16–81]. В средневековом же восприятии пространство семантично, но не антропоморфизировано: картина в тексте не определяется взглядом наблюдателя, но неким идеальным взглядом. Равным образом, пространство иконы не конституируется взглядом молящегося, а направлено на него. Ср. о точке зрения в иконописи, например: [Флоренский 1996. С. 9–7]; [Жегин 1970]; [Успенский 1995б. С. 246–263]; [Языкова, Головков 2002. С. 13–14].
156
См. об этом, например: [Элиаде 1999. С. 251–284]. «Для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни части пространства качественно отличаются от других. „И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая“ (Исход, III, 5). Таким образом, есть пространства священные, т. е. „сильные“, значимые, и есть другие пространства, неосвященные, в которых якобы нет ни структуры, ни содержания, одним словом, аморфные. Более того, для религиозного человека эта неоднородность пространства проявляется в опыте противопоставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально, всему остальному — бесформенной протяженности, окружающей это священное пространство. <…> Появление священного онтологически сотворяет мир. В однородном и бесконечном пространстве, где никакой ориентир невозможен, где нельзя ориентироваться, иерофания обнаруживает абсолютную „точку отсчета“, некий „Центр“» [Элиаде 1994. С. 22–23].
Ср.: «Во всяком случае для мифопоэтического сознания пространство принципиально отлично и от бесструктурного, бескачественного геометрического пространства, доступного лишь измерениям, и от реального пространства естествоиспытателя, совпадающего с физической средой, в которой наблюдаются соответствующие физические явления» [Топоров 1983а. С. 230]. Ср.: «В архаической модели мира пространство оживлено, одухотворено и качественно разнородно. Оно не является идеальным, абстрактным, пустым, не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется ими» [Топоров 1988б. С. 340].
157
[Лотман 1996. С. 239, 240]. Ср.: «На земле <…> были места святые, праведные и места грешные. Путешествие в средние века было прежде всего паломничеством к святым местам, стремлением удалиться от грешных мест в святые. Нравственное совершенствование принимало форму топографического перемещения <…>. Достижение святости также осознавалось как движение в пространстве: святой мог быть взят в рай, а грешник ниспровергнуться в преисподнюю. Локальное положение человека должно было соответствовать его нравственному статусу»; «[ч]асти пространства различались по степени своей сакральности»; «пространственные представления средневекового человека имели в значительной степени символический характер, понятия жизни и смерти, добра и зла, благостного и греховного, священного и мирского объединялись с понятиями верха и низа, с определенными сторонами света и частями мирового пространства, обладали топографическими координатами»; «[с]овременные категории времени и пространства имеют очень мало общего с временем и пространством, воспринимавшимися и переживавшимися людьми в другие исторические эпохи. В так называемом примитивном, или мифологическом, сознании эти категории не существуют как чистые абстракции, поскольку само мышление людей на архаических стадиях развития было по преимуществу конкретным, предметно-чувственным» [Гуревич 1984. С. 86, 87, 89, 451].
158
[Успенский сборник. 1971. С. 47, л. 116]. Далее Сказание о Борисе и Глебе в статье цитируется по этому изданию, страницы издания и листы рукописи указываются в тексте. Ср. именование «псами» убийц Никифора Фоки в Хронике Константина Манассии [БЛДР-IX. С. 148].
Слова из 21 псалма о тельцах и псах истолковывались в христианской традиции как прообразование взятия под стражу Христа, то есть в Сказании указывалось на христоподобие Бориса. В Углицкой лицевой Псалтири 1485 г. к псалму дается такая иллюстрация: «Писание: Юнци тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя. Пс. 21. Миниатюра: Между воинами, которых по двое с обеих сторон, стоит священная фигура, с сиянием вокруг головы, над нею надпись: IC. ХС. У воинов на голове воловьи рога. Писание: Яко обидоша мя пси мнози. Пс. 21. Миниатюра: Также священная фигура, а по сторонам ее по два воина с песьими головами». Люди с песьими головами изображены и на миниатюре византийской Лобковской (Хлудовской) Псалтири IX в. [Буслаев 2001. С. 211–212).
На этих изображениях сочетаются вместе элементы означаемого (воины) и означающего (рога, песьи головы). Соответственно, и убийцы Бориса должны, очевидно, восприниматься как не совсем люди. Впрочем, по мнению Л. А. Дурново и М. В. Щепкиной, на миниатюре Хлудовской Псалтири изображены ряженые с собачьими головами-масками (см. комментарий М. В. Щепкиной к воспроизведению иллюстрации в изд.: [Щепкина 1977. Л. 19 об.]. Однако для русской традиции лицевых Псалтирей эта семантика иллюстраций к Пс. 21:17 не могла быть значима: фигуры с собачьими головами должны были восприниматься как псоглавцы, кинокефалы.
Параллель «убийцы святого — псы» воспринята Сказанием о Борисе и Глебе из Псалтири, вероятно, через посредство Второго славянского жития князя Вячеслава Чешского (Легенды Никольского), где сообщается о судьбе убийц Вячеслава, из коих иные, «пескы лающе, в гласа место скржьчюще зубы, воследующе грызением пескым» [Сказания о начале 1970. С. 82]. Упоминание о брате и инициаторе убийства Вячеслава Болеславе «[н]о и сам брат его, якоже поведают мнози прежнии, часто нападающим нань бесом» [Сказания о начале 1970. С. 82] сходно с характеристикой братоубийцы Святополка в Сказании о Борисе и Глебе: «нападе на нь бесъ». Христологическая (в том числе и прежде всего литургическая) символика также роднит оба текста.