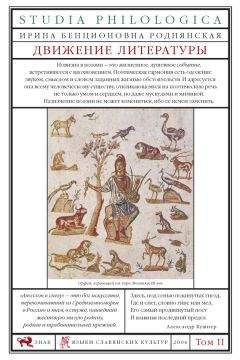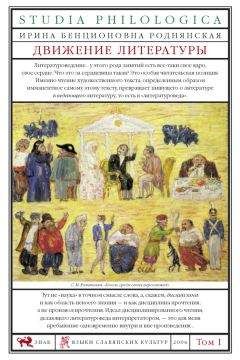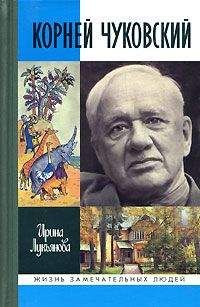Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Сейчас плыть по течению значит разувериться в весомости и самостоятельности литературного дела. И в неменьшей степени: сейчас плыть по течению значит подменить литературное дело недавно разрешенной религиозной (или теософической) проповедью, привычно оправдывая понижение творческой воли полезным результатом. В этой связи приведу поучительную выписку из французского философа-неотомиста Жака Маритена: «Религиозное обращение не всегда имеет благоприятное воздействие на произведение художника, особенно второстепенного. Причины этого ясны. На протяжении лет внутренний опыт, откуда рождается вдохновение художника такого рода, был опытом, который питался каким-то греховным жаром и который открывал ему соответствующие аспекты вещей. Произведение извлекало из этого пользу. Теперь сердце художника очистилось, но новый опыт остается еще слабым и даже инфантильным. Художник потерял вдохновение былых дней. Вместе с тем разум его заняли теперь великие, только что открывшиеся и более драгоценные нравственные идеи. Но вот вопрос, не будут ли они, эти идеи, эксплуатировать его искусство как некие заменители опыта и творческой интуиции, оказавшихся недостаточно глубокими? Здесь есть серьезный риск для произведения» («Ответственность художника», перевод Р. А. Гальцевой).
… Возвращаясь к сути разговора, минимальным «мировоззренческим основанием» для литературного творчества считаю отношение художника к своему дару как вверенной ему возможности, за положительную реализацию которой он отвечает перед живущим в его душе высшим началом. Отношение же к таланту как к собственности, которой можно распоряжаться по усмотрению – хвастаясь, эксплуатируя или попирая, – вот начало всяческой разрухи в искусстве.
Но вот на какой вопрос ответить, полагаю, невозможно – что ждет нашу литературу завтра? Или по-другому: в какой точке, кем и как совершится прорыв из нынешнего вялого анабиоза? Нельзя было предположить непосвященным, что в столе покойного и подзабытого писателя лежит роман «Мастер и Маргарита». Нельзя было предсказать явление «Ивана Денисовича»; это уже задним числом позволительно рассуждать, что создание того и другого едва ли не закономерность. Творческая воля – она и есть непредвиденное, которое явит себя в свой срок.
Гипсовый ветер
О философской интоксикации в текущей словесности
… мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно!
Насчет названия сразу объяснюсь – оно подвернулось неожиданно, как наглядное резюме моих читательских впечатлений. В зачине романа Виктора Пелевина «Жизнь насекомых» говорится о лепных снопах на каком-то бездарном фронтоне, «навек согнутых порывом гипсового ветра». Этот-то ветер, безжизненный, безвоздушный и бездвижный, дует в поникшие паруса нашей «серьезной» литературы – той, которая в силу своего беззастенчивого многословия заняла наиобширнейшие журнальные зоны. Когда-то Набоков, ревизуя знаменитостей, недобрым словом поминал их многотомные гипсовые кубы, зачем-то переставляемые потомками из десятилетия в десятилетие. Куб – слишком правильная и законченная на нынешний вкус форма. Фантасмагорическая причудливость, выполненная в том же материале, требует какого-то судорожного поддува. Так что пусть будет «гипсовый ветер» – с исходным намеком на кислородное голодание читателя.
Обдумывая эти заметки, я с удовольствием обнаружила, что не остаюсь в полном одиночестве. В газете «Сегодня» от 25 июня 1993 года появилась небольшая, но крутая статья Александра Архангельского на мучающую меня тему; первые ее строки реквизирую в качестве ввода в собственные размышления: «Словесность в России больна. Она сомнамбулически движется в журнальном пространстве; непонятно куда, неясно зачем. Утрачены привычные ориентиры, разрушилась система художественных предпочтений». И – вытекающий отсюда вопрос: «… кто нас рассудит?» – Да никто не рассудит, если в этом избавившемся от авторитетных ориентиров «плюралистическом» пространстве все очевидней воцаряется не равновесный межвидовой мир, а самое агрессивное лоббирование. Но я сейчас о другом.
Итак, словесность больна, впору ставить диагноз. Архангельский тут уклоняется, лишь описывает болезнь – общо, хоть и вполне узнаваемо: «… словесный и “тематический” блуд». И рекомендует средство из разряда тех, что в медицине зовутся симптоматическими (когда причина болезни неясна или неодолима и остается бороться только с ее внешними проявлениями – например, сбивать жар). Предлагает же он, не споря и не сердясь, пользовать немоществующих авторов прямыми вопросами: разве те не понимают, что их эпатаж и вычуры эстетически проигрывают рядом с не менее модерными, но более талантливыми образцами? и разве не очевидно для них самих, что их мнимое эстетство лишено этической оправданности? Таких «прямых вопросов», надеется критик, больная проза «боится больше всего».
Нисколько не боится – ни она, ни ее «группы поддержки»! Там своя шкала, свои гении, да и то, что приводится Архангельским в качестве устыжающей точки отсчета, сомнительно (об этом скажу в своем месте). Как замечено в одном из новейших философских романов, тоже скучном, но по крайней мере неглупом (время в нем приурочено к рубежу прошлого и нынешнего веков): «При начальном своем развитии распад стереотипа проявляется в виде так называемого культурного подъема, во множестве производящего на свет оригинальных ученых, утонченных поэтов, понятных лишь двум-трем тысячам ценителей. Но по прошествии достаточного времени уже каждый из многих тысяч ничтожных кружков, отрицающих друг друга, будет иметь своего великого поэта… ибо в каждой подворотне будет свой эталон красоты. Сейчас спорят, кто гениальнее – Бетховен или Рихард Штраус, – через сто лет будут спорить о сравнительной музыкальности баховской мессы и визга механической пилы» (А. Мелихов, «Так говорил Сабуров»). Сто лет как раз миновали, и задавать «прямые вопросы» уже поздно – у них нет восприимчивого адресата.
Болезнь нашей прозы – это болезнь нашего культурного сознания. Она шире и глубже, чем преднамеренные встряски в эстетике и этике. Не знаю как Архангельский, а я честно признаюсь, что мне не под силу найти именование, поясняющее ее этиологию и прогнозирующее ее развитие. То есть я, конечно, читала, и сама писала, о всевозможных кризисах, но тут требуется что-то, теснее связанное с историческими изломами нашего бытия, чем общеизвестные слова о «смерти Бога», «умирании искусства» или о том, что после Освенцима нельзя писать стихи. Тут надобны орлиная зоркость и кротовье упорство при рытье вглубь. Я не берусь.
«Философская интоксикация» – не диагноз, а то, что медики и социологи называют синдромом: такой набор симптомов – устойчиво связанных между собой и от казуса к казусу повторяющихся именно в данной связке, хотя внутренняя логика их спаянности может быть не вполне ясна. Термин придумали психиатры, определяя так особые черты «рассуждательства» у душевнобольных. Для меня это, разумеется, метафора, правда гармонирующая с общим колоритом: в прозе последнего времени пребывание в доме скорби либо в аналогичном ему бредовом пространстве столь неизбежно, что прямо-таки соблазняет обратиться к языку психиатрии.
Впрочем, речь идет, конечно, о недуге духовном, накопители которого – громоздкие тексты, по преимуществу именуемые романами, – необязательно взывают к медицинскому освидетельствованию, а между тем источают ту самую мистическую скуку, ту больную тоску, которую испытывал Иван Федорович в присутствии своего ночного гостя.
Нас снова учат. Заметили ли вы, что, пока шли пересуды о постмодернизме, литературный антураж исподволь менялся? Сколько наговорено было о том, игра ли литература или все-таки нет, даже Солженицын возвысил голос; а тем временем игры кончились. Нет больше постмодернизма, резвящегося по ту сторону добра и зла. Напишут ли еще что-то в прежнем роде Вик. Ерофеев или В. Сорокин, время все равно подвело черту под этими забавами. Их мятежное знамя перешло в руки, как сказал бы М. М. Бахтин, агеластов – склонных к угрюмой экзальтации «несмеянов», которым наши бедные совковые головы нужны не для проказливого обливания помоями, а для «идейной» трепанации всерьез. [300]