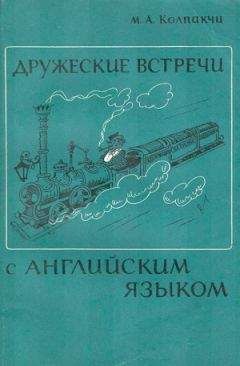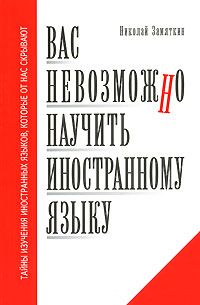Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
Как к этому отнестись? Как отношусь к этому я? Как к половинной правде, неполной, но все-таки истине, притом оглашенной своевременно, – а не как ко лжи. Прекрасно знаю, что можно возразить Синявскому. Что красота, оторванная от истины и добра, обращается, как превосходно объяснил Владимир Соловьев, в кумира, ничуть не более достойного поклонения, чем все иные идолы. Что Пушкин не такой, не идольской красоте служил и потому все попытки приписать ему имморализм, предпринимавшиеся еще декадентами во времена достопамятного «особого чествования» и так нещадно высмеянные Соловьевым, с тех пор неизменно рассыпаются в прах. Что, заставляя искусство устами Председателя чумного пира (а для Терца значит – устами и самого Пушкина) сказать «прости» религии, автор «Прогулок» ставит поэта в некоторую идеологически фиксированную позицию и тем самым изменяет собственному методу – совпадения противоположностей и текучего их взаимоперехода. Что приписать Пушкину некрофилию можно, только опьяняясь собственной беззастенчивостью.
И все же книга Синявского-Терца – это тот «диалектический момент», мимо которого не следует проскакивать в сегодняшних размышлениях о судьбе искусства. Потому что классическое в своем роде представление русской религиозно-философской эстетики об искусстве как об особом и независимом служении Абсолюту – это представление нынче совершенно утрачено. Возобладали же две крайности. На одном полюсе – искусство, уже освободившееся от вериг соцреализма (что так тяготили Терца, автора соответствующего иронического трактата), но усиленно мобилизуемое в новой сфере идей, на службу новому благочестию, – об этом в своем месте говорил Сергей Бочаров с понятной мне тревогой. На другом полюсе – постмодернистское антиискусство, деятели которого освобождают художество от соотношения с истиной и от прочих тяжеловесных материй путем его обезображивания и «деконструкции». Искусство, верное Красоте как подразумеваемой идеальной норме, свободное от религии и от морали – но не от Бога и не от Добра (слова С. Н. Булгакова), расплющено между этим молотом тенденциозности и этой наковальней анархического шутовства. А книга Синявского, сквозь все ее сбивающие со следа ужимки и прыжки, выказывает любовь к Пушкину именно за даруемую им освобождающую красоту, за поэзию в ее извечном и неизменном значении.
Односторонность книги корректирует другие наши бедственные односторонности.
В виде примечания скажу, что, написанная в лагере и дописанная вскоре по выходе из него, книга Синявского близка к его долагерным вещам (например, к рассказу об изгойстве «Пхенц») и совсем, на мой взгляд, не близка к направлению его (вместе с М. Розановой) парижского журнала «Синтаксис» – направлению малопривлекательному, судя по попадавшимся мне отдельным номерам. «Прогулки с Пушкиным» – вещь, свободная от идеологизма нынешней журнальной драки, и не стоит ее туда вталкивать.
Дерзости и заскоки Вл. Новикова
Эссе, пародии, размышления, критика – все это собрано в книжке под провоцирующим названием «Заскок» (1997).
«Уметь писать – значит уметь писать все». Вл. Новиков не голословен: он умеет-таки писать все – или почти все. Рецензию, фельетон, трактат, если надо, сжатый до тезисов и афоризмов, манифест в духе литературных мечтаний, очерк нравов, а коли пародию, то и в прозе, и в стихах… Перечисляю, наверное, не все уменья – только те, что вместились в книжку с ее ладным разноязычьем. Призывая «попытаться развязать язык» и работать «для читателя», Новиков первый же подает пример того и другого. Притом, как с ходом времени язык «развязывается», видно в пределах собранного в «Заскоке». Если в 1987 году в письме критика могли иметь место слишком знакомые оговорки вроде: «Здесь, однако, возможен упрек в объективизме, в отсутствии четкой авторской позиции…», то несколько лет спустя в малых жанрах, в циклах «Алексия» и «Русофония», предназначавшихся не для толстых, а для «стройных» изданий – «Независимой газеты» и парижского «Синтаксиса», он демонстрирует блистательную непринужденность и возбуждает в читателе чувство ничем не омраченного удовольствия. Бо́льшая часть «Заскока» – «гедонистическое чтение», такое, без которого, по сквозной и абсолютно справедливой мысли автора, жизнь литературы обращается в призрак, в диссертационный муляж. Для этих муляжей, перед коими обычно пасуют ученые аналитики и особенно зарубежные слависты, Новиков изобрел определение, точностью равное целому открытию: «очень защищенное письмо», «проза с высокой степенью защищенности». Критическая проза самого Новикова рвется вперед, не заботясь о тылах, она откровенно (иногда – симулятивно) дерзка, и о ее смысле можно судить да рядить, не отвлекаясь на защитные маневры автора, которых в принципе нет.
Но прежде – не о принципах, а о вкусах, будто бы не подлежащих спору, на самом же деле – содержательно дискуссионных как практическая проверка принципов. «Взгляд на нагое тело текста» – а к нему зовет «стойкий тыняновец» Новиков – он-то во множестве частных и персональных случаев меня смущает и даже коробит. Коробит неожиданный в трезвых (обещавших гамбургский счет) устах медоточивостью похвал: «Вознесенский в пору своего высшего взлета…» (уж так и взорлил!), «гениальная поэзия Окуджавы» (многовато даже для меня, не склонной к отступничеству от окуджавских песен), «пафос активно творимой гармонии» (к лицу ли он Юнне Мориц?) – это о почтительно признанных. А вот о направленчески близких: «виртуозный стих Еременки», «могучий Геннадий Айги» (хотелось бы узнать рецепт извлечения кофеина из этого морковного кофе), «услышать в житейском шуме шепот вечности» (о Валерии Нарбиковой, совсем уж не в новиковском стилевом регистре). Иногда щедрые пятерки с плюсом подкрепляются прямо-таки нищенскими цитатами: отрекомендованный сверхдерзостным новатором В. Соснора смахивает на Вознесенского поры то ли взлета, то ли излета, а заодно и на Евтушенко («Кто мало-мальски, но маляр, читал художнику мораль» – «Он знал, что вертится земля, но у него была семья»); решить же, чем лучше хвалимый пассаж из Нарбиковой («А люди величественны, и человек – это величина, но разве человек это постоянная величина…» и проч.), чем лучше он фразы из Н. Кононова, приведенной ради отрицательного примера, предоставляю читателям, которые не поленятся заглянуть на 10-ю и 282-ю страницы «Заскока».
Коробят и наиболее безоглядные, казалось бы, проникновения («Три стакана терцовки»), а на деле – обдуманные выходы из «нагого» внутритекстового пространства к литературной политике и тактике. Органически даровитый Рубцов объявлен «Смердяковым русской поэзии», думаю, исключительно потому, что известная литературно-идеологическая группировка назначила его, «беспартийного нееврея», правопреемником Есенина. Ну, а если наплевать на «наружный шум» и довериться внутреннему слуху, то рубцовское «В горнице моей светло…», честное слово, не потускнеет рядом с «Горными вершинами» Гёте – Лермонтова, и одного этого достаточно, чтобы Рубцову в смердяковых не ходить. Кстати: «Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны…» – разве конъюнктурная строчка, а не позиция всех крестьянских поэтов, начиная с Клюева (мощнейшего модерниста, ни разу не упомянутого в книге, утверждающей права русского модернизма)? Точно так же уникума Бродского можно счесть поэтом «нормальным» (дескать, не дурен, но не красавец) лишь в пику «ленинградской школе», радевшей за своего. Согласна, что каждым «стаканом терцовки» отмечен некий «зазор между реальностью и репутацией» (еще одна отличная формула, которой так и тянет воспользоваться), будь то репутация Венедикта Ерофеева, Бродского или Рубцова, но неизмеримо шире – не правда ли? – такой зазор в случае Ерофеева Виктора («гениального организатора своего авторского успеха») или Айги.
Еще смущает, как составлены обоймы имен – неизбежные, видимо, в любой литературно-критической книжке. Ладно уж, что имя Татьяны Толстой сияет посреди навязанного ей «неоавангардистского» окружения, как планета среди астероидов. Ладно уж, что В. Соколов, О. Чухонцев и В. Корнилов – поэты с совершенно разным летательным аппаратом и пилотажем – скопом причислены к тем, кто «летает поближе к земле». Но когда читаешь, не важно о ком: «… традиционные корни тянутся не дальше Рыленкова или Смелякова», – то уж простите. Насчет таланта Смелякова я отнюдь не преувеличенного мнения, но все же, все же! Сдается, что Вл. Новиков, ослепленный «ультрафиолетовым излучением авангарда» (см. статью-декларацию «Урезанная радуга»), дальтонически не различает цвета в середине спектра. И то сказать, срединное для него значит посредственное, мечта его – «соединить элитарное с элементарным», минуя пространство между ними. («Утрата середины» – такой диагноз поставил господствующему ныне эстетическому мышлению один из ярких культурфилософов ХХ века.)