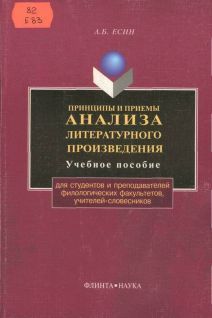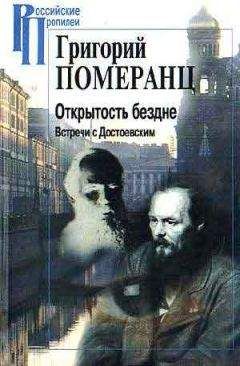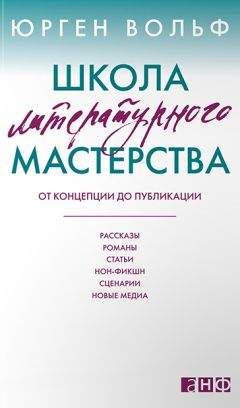Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
Ассоциативная связь Агрикова меча и Креста тонко подмечена А. М. Ремизовым в повести «Петр и Феврония Муромские» (1951): «На выносе Креста Петр стоял у праздника в Воздвиженском монастыре. Агриков меч неотступно подымался в его глазах, как подымали крест, — в широту и долготу креста. Его воля защитить брата подымала его вместе с крестом над землей высоко» [Ремизов 1993. С. 307].
84
А. Н. Веселовский указывал на возможную семантическую соотнесенность несколько иной природы между наименованием монастыря и его храма — церкви Воздвижения Креста Господня — и змееборчеством: согласно народным поверьям, змеи скрываются под землею на праздник Воздвижения. См.: [Веселовский. 1871. С. 96, примеч. 2].
К празднику Воздвижения народные поверья приурочивают предзимнее исчезновение змей: «По русскому поверию, 14 сентября (на праздник Воздвиженья св. креста) все змеи (гадюки) лезут в вирий или скрваются в землю» [Афанасьев 1994. С. 548]. Ермолай-Еразм мог учитывать эту соотнесенность, соединяя змееборческие мотивы с символикой праздника Воздвижения; однако само это соединение едва ли обусловлено фольклорной традицией, которая в данном случае сама, вероятно, производив от традиции церковной, символически связывавшей одоление змея и праздник Воздвижения.
85
[БЛДР-III. С. 284, 286].
Помимо цитируемого произведения — Слова святого Григория Богослова о Честнем Кресте (в действительности Григорию Богослову не принадлежащего; в другой редакции сказание приписывается Григорию Двоеслову) — этот же сюжетный мотив содержится в Слове Севериана Гевальского (также на самом деле написанном не им) и в сказании о Лоте из Палеи. См. издания текстов: [Порфирьев 2005. С. 96–97, 101–102, 217, 227]. О происхождении этого сюжета см.: [Порфирьев 2005. С. 47–49, 57–58].
86
Между прочим, для русских духовных стихов характерна параллель «древо — крест»; «древом крест остается <…> в русских духовных стихах» ([Бадаланова-Покровска, Плюханова 1993. С. 125–126], здесь же примеры). Ермолай-Еразм переосмыслял фольклорные сказочные и эпические парадигмы, но символическая соотнесенность древа и креста у него едва ли навеяна фольклорными источниками.
А. А. Шайкин уверенно утверждает, что мотив вырастания деревьев из срубленных деревец — «фольклорного происхождения», хотя и не указывает аналогов. См.: [Шайкин 2005. С. 358]; ср. у М. О. Скрипиля (ТОДРЛ. 1949. Т. 7. С. 165). Для такого категоричного утверждения, я полагаю, оснований нет.
87
См. прежде всего: [Picchio 1984. Р. 489–503] (русский перевод О. Беловой в кн.: [Пиккио 2003. С. 688–692]); [Гладкова 1998]; [Ужанков 3].
Ю. Г. Фефелова, признающая, напротив, «загадочную оторванность вступления от общего сюжета жития», полагает, что структура Повести мотивирована ее предназначением как уставного чтения. См.: [Фефелова 2006. С. 479–480].
88
В исследованиях Повести неизменно отмечается, что, несмотря на структурное сходство ее змееборческого сюжета с инвариантным сюжетом волшебной сказки, за одолением змея (парные функции XVI и XVIII «борьба/победа» по классификации В. Я. Проппа) следует не вознаграждение героя (функция XXXI «свадьба»), а причинение ему вреда антагонистом (болезнь Петра, тело которого, обрызганное змеиной кровью, покрывается струпьями). Об этих сказочных функциях см.: [Пропп 1928. С. 60–61, 71–72]. Трансформация структуры сказочного сюжета может объясняться тем, что болезнь Петра представляет собой зеркально «первернутый» мотив искупления первородного греха, внушенного змием — диаволом: грех искупается кровью Христовой. В апокрифах о Крестном древе искупление понимается, в частности, как «физическое смывание» греха — очищение. Ср. в Толковой Палее: на Голгофе «пропятоу бывшоу Ис[у]су, и абие прорази каме(нь) ч[е]стьная та кровь Г[о]с[под]ня до главы Адамовы и очище ю» [Громов, Мильков 2001. С. 631] (текст по списку: ГИМ, Барс., 620, л. 38а). Князь Петр соотнесен с Христом, но одновременно демонстрируются относительность, границы этой соотнесенности: победа Петра над змеем не тождественна, не равнодостойна Христовой.
89
Интерпретация Повести как текста с глубинным религиозно-символическим кодом, распространившаяся в медиевистике последнего времени, может и не противоречить поискам фольклорного генезиса отдельных сюжетных мотивов и образов. Недавно И. Чекова предприняла попытку проследить сходство образов Повести с образами и представлениями архаической мифологии [Чекова 2002а. С. 181–192]. За ней во многом следует Ю. Г. Фефелова; см.: [Фефелова 2005. С. 428–483].
Такой подход возможен. Однако существенен вопрос, как соотносятся выявляемые при этом смыслы с религиозной семантикой, безусловно значимой для составителя текста и его аудитории? Можно ли в данном случае разграничивать диахронию и синхронию и/или вести речь о «памяти жанра»?
90
О версиях апокрифического Мучения Георгия см.: [Кирпичников 1879]; об особенностях «версии В» см. также: [Веселовский 1880. С. 139].
91
[Novaković 1876. S. 81] (текст по списку: ГИМ, Хлуд., № 189).
92
Текст из сборника: Трефологий, или Избранные службы святым с иными сочинениями (XIV в., ГИМ, Хлуд., № 162) — [Описание рукописей. С. 334].
93
[Кирпичников 1879. С. 41–42] (здесь же параллели из других агиографических текстов).
94
Ср. текст Мучения в изд.: [Веселовский 1880. С. 163–16] (текст по рукописи: Хлуд., № 195); [ПОРЛ 1863. С. 101–109] (текст по рукописи: Син., № 321).
95
Ср. текст в изд.: [Пролог 1917. Стлб. 519–520, л. 126)]; [Павлова, Железякова 1999. С. 217, л. 199Ь)]. Ср. текст пространной редакции: [Пролог 1643. Л. 276 об. — 277].
96
Ср. текст так называемой второй русской редакции Чуда Георгия о змие (по рукописи XVI в.: РНБ, Пог., № 808): [Рыстенко 1909. С. 36–42]; [ПЛДР XIII 1981. С. 520–526]; тексты других редакций: [Рыстенко 1909. С. 23–26, 27–35, 43–57–64].
97
См.: [Пролог 1643. Л. 282 об. — 283] (чудо читается под 24 марта). Ср.: «Чюдо 7. О пастусе, егоже оуяде змия» в изд.: [Ангелов 1971. С. 145–147] (текст по списку: ГИМ, Увар., № 1783 [434], конец XV — начало XVI в.). И се же поведе намъ тъ же Георгии: Восходящю ми в гору, ту срете мя чернець и рече ми: «Поиди, почто медляешъ». И вземъ кр[е]стъ от мене, поидие преж. И пошед мало, съврати ся от мне на стезю. И азъ въследъ его. И се стадо овець, и пастухъ лежаше, оуже кончая ся, змиею оуеденъ. Бяше же источникъ ту кладязе близъ. И рече старець: «Почерни воды, принеси семо и облей кр[е]стъ сии над чашею, юже носиши». И раздвигь оуста пастуху, въльяхове. И реч[е] старець: «В имя пр[е]с[вя]тая Б[ого]ро[ди]цы, силою Х[ристо]вою, исцеляетътя рабъ Х[ристо]въ с[вя]тыи Георгии. <…>». Старец рассказал пастуху о явлении святого Георгия: «Чадо, сидяшю ми оу келии своея, прииде мужь на коне беле и реч[е]: „Софроние, въстани, иди борзо къ источнику, иже одесную тебе на оугь, и вижь ч[е]л[ове]ка, от змия оуедена. И оттоле иди на северный путь, и сърящеши черньца, носяща кр[е]стъ железный на древе. И, вземъ, облии водою, дажь оуяденому пити въ имя О[ть]ца, и С[ы]на, и С[вя]т[а]го Д[у]ха, силою Х[ристо]вою исцеляет тя рабъ Б[о]жии“ <…>» (Там же. С. 145–146).
98
Их указал среди русских волшебных сказок А. А. Шайкин. См.: [Шайкин 2005. С. 350].
99
«В тамбовской (так! — А.Р.) губ. поселяне толкуют, что во время грозы летают огненные змеи и, подобно, дьяволу, стараются спрятаться от громового удара; но Бог преследует их своими меткими стрелами, и если случится, что змей будет поражен возле какого-нибудь здания, то оно непременно загорится от излияния и брызгов змеиной крови»; «поражая змея, герой подвергается опасности погибнуть от его яду или крови, которая течет рекою из ран убитого чудовища» [Афанасьев 1994. С. 516, 520]. Свойственна фольклорному образу змея и демоническая семантика [Афанасьев 1994. С. 581–585].
100
Афанасьев А. Н. Зооморфические божества у славян: птица, конь, бык, корова, змея и волк // [Афанасьев 1996. С. 176–179] (здесь же примеры из фольклорных текстов). Ср. также, например: [Афанасьев 1994. С. 564–570].
101
Афанасьев А. Н. Ведун и ведьма // [Афанасьев 1996. С. 57, 85].
102
Ср. описание вставшей из гроба Февронии в ремизовской повести: «С вечера в день похорон поднялась над Муромом гроза. И к полночи загремело. Дорога до города из Воздвиженья вшибь и выворачивало — неуспокоенная, выбила Феврония крышку гроба, поднялась грозой и летела в Собор к Петру. Полыхавшая молнья освещала ей путь, белый огонь выбивался из-под туго сжатых век, и губы ее дрожали от немевших слов проклятья» [Ремизов 1993. С. 320].