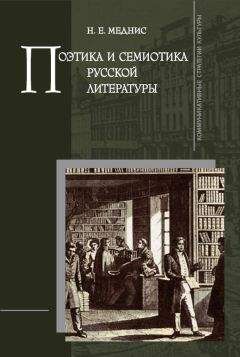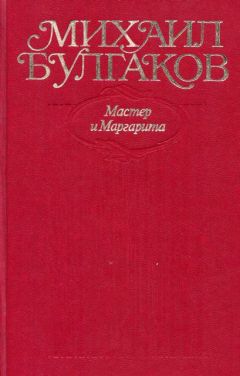Ольга Поволоцкая - Щит Персея. Личная тайна как предмет литературы
Примечание: Эту лукавую формулировку Воланда почти зеркально повторяет маленький фрагмент из диалога Пилата с Иешуа Га-Ноцри. Иешуа с готовностью излагает главную суть своего учения о государственной власти:
– …всякая власть является насилием над людьми и … настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
– Далее!
– Далее ничего не было, – сказал арестант, – тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму. (ММ-2. С. 562)
Невозможно не чувствовать, что выделенный нами фрагмент кажется информационно «пустым», эмоционально нейтральным, ничего не добавляющим к пониманию эпизода, то есть лишним. Но Булгаков не тот автор, который грешит подобного рода «разбавлениями». Стоит задержать внимание на этом эпизоде, изъять его из ближайшего контекста и соотнести с только что прозвучавшим дьявольским кредо: «Просто он существовал, и больше ничего», стоит только вспомнить, что излагает Ершалаимские события сам Воланд, который начинает повествование словами: «Все просто…», чтобы догадаться, что с формальной точки зрения, демагог и софист, которым является Воланд, находит доказательство своего понимания истории человечества в словах самого Иешуа: «Далее ничего не было». Этими словами сам Иешуа как бы подводит итог своей земной жизни. Конечно, Воланд их трактует расширительно, обнуляя смысл всей истории человечества. Проповедь Иешуа против государственной власти была оборвана самой властью, а сам проповедник, возвысивший голос против власти, как преступник, был связан, отправлен в тюрьму и казнен. Действительно, для Воланда «все просто»: человек родился, изобрел утопическую, романтическую идею, стал ее проповедовать, был арестован и казнен, то есть «просто он существовал», – и «далее ничего не было», или, что то же самое – «и больше ничего».
Вернемся к диалогу Воланда и Берлиоза. Читатель с готовностью солидаризируется с этим странным «немцем» в споре против Берлиоза и его атеистической пропаганды, и тем самым оказывается обречен принять и оправдать убийство редактора, замаскированное под несчастный случай. Обратим внимание, что Воланд не объясняет, за что, за какие грехи, будет убит Берлиоз. Булгаков как будто знает, что эту «грязную» работу добровольно проделают за сатану сами читатели и истолкователи его романа, которые уподобляются, сами не понимая этого, населению огромной страны, которая, замирая от ужаса массовых казней, искала и находила оправдание и разумный смысл этому кровавому абсурду, наделяя невинные жертвы их мнимой виной.
Несомненно, вина Берлиоза перед литературой огромна: он гонитель духа свободы творчества, он один из тех, кто превратил литераторов в двуличных, продажных, трусливых рабов, он продолжает развращать молодых невежественных «пролетарских» поэтов государственными заказами типа большой антирелиогиозной поэмы, написания которой он ожидает от Ивана Бездомного. Но погиб Михаил Александрович Берлиоз вовсе не поэтому.
Вернемся к комментированию реплики Воланда: «Просто он существовал, и больше ничего». Это слово Воланда – его визитная карточка – определяет не только его отношение к Христу, но и к человеку вообще. Его можно понять как дьявольскую эпитафию на смерть любого человека. «Просто он существовал, и больше ничего» – формула абсолютного холодного презрения к смыслу человеческой жизни вообще.
Из этого универсального презрительного отношения к жизни любого человека легко и непротиворечиво следует и оправдание любой его «внезапной смерти», что в лексиконе Воланда, как мы убедимся, означает убийство. Собственно, убийство ему даже не нужно оправдывать, ведь человек и так смертен, и поэтому какая разница, когда пробьет его час? Человек слеп и своего часа не знает. Тот же, кто этим знанием обладает, выше и сильнее того, кто слеп и несведущ. То, что для простого смертного, например, буфетчика Сокова, самая большая и непостижимая тайна, то для беса Коровьева – лишь повод для глумливого веселья. «Подумаешь, бином Ньютона!» – шутит он, и играючи назначает время казни.
Слово Воланда – это, как мы предполагаем, особый языковой феномен, разработанный Булгаковым, но изобретенный не им. Этот лингвистический образчик фатально двусмысленной речи, речи многозначительной, афористичной, скрывающей в себе прямые угрозы насилия, речи властной, опирающейся как бы на сами законы объективной реальности, то есть апеллирующей к тому, на чем держится мир, – это стилизация логики и интонации речи Сталина, единственного громко звучащего слова, в ту эпоху слышного всем.
Главные характеристики речи Воланда – это ее принципиальная установка на разрушение коммуникации и на отмену номинативной функции слова. Воланд совершенно не заинтересован в том, чтобы собеседник ясно понимал его планы и намерения, поэтому его речь не столько открывает, разъясняет мысль, сколько скрывает ее, прячет, при этом имея вид полной и окончательной правды, непререкаемой истины. Его речь афористична и парадоксальна, она ставит в тупик, но смысл ее в том, чтобы ее носитель выглядел предельно авторитетно, чтобы его роль хозяина мира, хозяина положения, не вызывала ни малейших сомнений, чтобы его могущество было очевидно. Что бы он ни изрекал, любая пошлость, низость, банальность, жестокость – все имеет чрезвычайно убедительный весомый вид закона бытия.
Невозможно не вспомнить мандельштамовский образ – характеристику речи диктатора-палача: «…а слова, как тяжелые гири, верны…». Любое слово изрекается так, словно это слово есть истина в последней инстанции. Слово Воланда – имитация божественного откровения. Это речевое поведение дьявола вполне логичное следствие того, что он – «обезьяна Бога», так же как и стилистика речи диктатора определяется его главной заботой – собственным обожествлением.
Это слово – речевая маска. Имея дело с Воландом, необходимо отдавать себе отчет в том, что он всегда имеет умысел, тайное намерение. Чтобы не позволить себя обмануть, нужно быть предельно внимательным, нужно заставить себя не поверить черту, и, конечно, необходимо сознательно подавить в себе желание быть обманутым. Для этого человеку дарованы воля и разум.
Продолжим наше изучение «немецкой» речи «профессора черной магии». Философская беседа с атеистами коснулась занимательного вопроса о том, кто же «всем этим управляет», если бога нет. Ответ Ивана прост – «сам человек и управляет». Возражение «иностранца» состоит в том, что человек сам не знает, что с ним будет завтра, а для того, чтобы управлять, надо иметь план хоть на какой-нибудь срок.
«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого не спорит. А дело в том, что…»
Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. (ММ-2. С. 552)
Выделенная нами фраза опять, по обыкновению Воланда, выдает себя за основу миропорядка. Кажется, что в этой фразе слиты воедино две банальные истины, а именно: жизнь человека заканчивается смертью и человек не знает времени своей смерти. Но это фраза – только маска, а за ней скрывается убийца, который ощущает свое превосходство над жертвой, потому что он-то знает, скрытую от жертвы тайну. Берлиоз не знает, что его смерть назначена на сегодняшний вечер, а заказчик убийства знает и испытывает удовольствие от своей власти над недогадливым смертным. Смерть Берлиоза будет выглядеть как несчастный случай, хотя на самом деле это будет виртуозно проведенной спецоперацией по ликвидации видного партийного функционера, то есть политическим убийством, – и это и есть рукотворный «фокус» «внезапной смерти».
Итак, мы выдвигаем гипотезу о том, что в лексиконе Воланда формула «внезапная смерть» означает спецоперацию по ликвидации очередной назначенной к уничтожению политической фигуры. Мы не ошиблись в переводе: об этом свидетельствует словечко «фокус», проскочившее как бы невзначай. С точки зрения грамматики выражение – «вот в чем фокус» – в этом контексте может означать вводное слово со значением синонимичным таким речевым оборотам, как-то: вот в чем дело, вот в чем штука, вот так-то и др. То есть слово «фокус», если его читать как вводное, почти теряет свое основное значение рукотворного чуда.
Примечание: Обратимся к черновикам. В «Третьей редакции романа (1936)» этот фрагмент текста выглядит так: