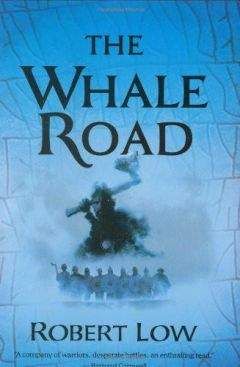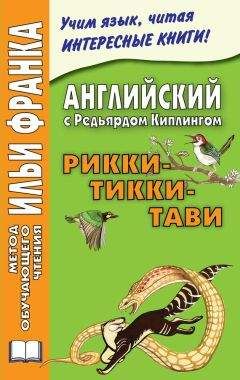Сергей Зенкин - Работы о теории. Статьи
Расхождение двух наук конкретно проявляется в том, на каком уровне упорядоченности они рассматривают свой объект. Филология с давних времен – для этого ей не нужно было дожидаться Соссюра или Лотмана – стремилась уточнять смысл слов в синхронной системе культуры, с целью выяснения того, что точно значил тот или иной текст в свою эпоху; она занималась установлением «языка», позволяющего читать конкретно-текстуальную «речь». Иначе и не может быть, когда занимаешься анализом текстов: они по определению представляют собой информацию, транслируемую (часто на очень большие расстояния) в социокультурном пространстве и времени, и для своего адекватного понимания нуждаются в более или менее стабильной системе условностей, которая бы служила шифром, кодом. Напротив того, поступки людей рассчитаны прежде всего на непосредственную эффективность и непосредственное понимание – на реакцию присутствующих «на месте» друзей, партнеров, противников; такое понимание накоротке возможно и без устойчивого кода, код можно импровизировать здесь и сейчас. Для филологии и семиотики дистантно-кодовое восприятие – это имманентное свойство объекта-текста (он именно на это и рассчитан), для социологии же – внешнее, хотя и постоянно возникающее осложняющее обстоятельство. Именно потому в вышеприведенной цитате Бурдье сетует на «информаторов, склонных выпячивать наиболее кодифицированные аспекты традиции» – то есть формулировать «язык», «туземную теорию» своего поведения; этнолог же должен не обманываться такой теорией и вообще соблазном теоретических построений, выясняя прежде всего актуальный смысл поступка, вырабатываемый в уникальных обстоятельствах социального поведения. У филологии есть свой аналог термина «туземная теория» – это «народная этимология», вообще всяческие некритические переосмысления, искажения языковой системы, и дело науки, преодолевая порчу языка, доискиваться до настоящей исторической системы культуры; а социология, по Бурдье, целит дальше – стремится редуцировать не только «туземную теорию», но и вообще всякую систему кода, чтобы добраться до своего истинного объекта, до «логики практики», которая носит уже несистемный характер[57].
Тем интереснее, что по крайней мере однажды, в книге «Правила искусства» (1992) Бурдье сам применил свой антифилологический по сути метод к описанию литературы – деятельности, казалось бы, исключительно текстуальной, которая исторически как раз и породила филологию, искусство трактовки прежде всего литературных текстов. В литературе он выделил специфически социологический, то есть нетекстуальный субстрат, тем самым отмежевавшись от многочисленных и разношерстных попыток социологической интерпретации литературных текстов – от Лафарга и Плеханова до Лукача, Гольдмана и французской «социопоэтики» 1970-х годов. Прецедентами его подхода можно считать разве что теорию «литературного быта» Бориса Эйхенбаума[58] и рецептивную эстетику Ханса Роберта Яусса – две традиции, которые сам он, судя по ссылкам, знал слабо, во всяком случае не с той стороны, с какой более всего с ними сближался.
Социологический субстрат литературы – это институт писательства (не путать с авторством).
Литература состоит из писателей – такова истина повседневного здравого смысла, по крайней мере в том, что касается высокой, «штучной» литературы. Если спросить у обычного человека, какая литература ему нравится или не нравится, то в случае высокой словесности в ответ прозвучат фамилии писателей, в случае массовой – тоже фамилии плюс названия некоторых жанров («детективы», «фантастика»), но почти никогда не заголовки конкретных произведений. Этот социальный факт недооценивается литературоведением, хотя очень часто оно само некритически перенимает тот же принцип и строит, например, историю национальной литературы не как историю произведений (их взаимных перекличек, внутри– и внелитературной рецепции), жанров, проблем или мотивов, а как историю «творцов». Для социологии же именно здесь и располагается специфический объект изучения: поскольку литература есть социальный институт или, по терминологии Бурдье, особое «поле» социальной деятельности, у этой деятельности обязательно должны быть «агенты», и их поведение – в отличие от продуктов их деятельности – носит не текстуальный, а практический характер. Оттого-то и есть смысл разграничивать «текстологическое» понятие автор, непосредственно связанное с «произведением» (в современной теории автор мыслится чаще всего даже как имманентный элемент произведения, его более или менее имплицитное «действующее лицо»), и социологическое понятие писатель, отсылающее к практической системе социальных агентов[59].
При формировании института писательства и конкретных социальных отношений между разными его представителями, образующими в сумме «литературное поле» (Бурдье иллюстрирует это анализом отношений между персонажами романа Флобера «Воспитание чувств»), совершенно специфическую роль играет фактор времени. Это не диахроническое время системных трансформаций, с которым имеют дело историки языка или литературы; это и не психологическое время переживания эстетического объекта, с которым работают эстетика и герменевтика; это время практического проекта – время расчета, целеполагания и движения к цели, которое может хронологически растягиваться, превосходя длительность жизни самого литературного «агента»-писателя.
На «рынке символических благ», где действуют такие агенты, выделяются две категории «предприятий» – с коротким и длинным циклом окупаемости. К первой принадлежат популярные бестселлеры, официозные или эпигонские произведения, рассчитанные на быстрый и недолговечный успех (символический или коммерческий: в эпоху автономизации литературного поля эти два капитала конвертируются друг в друга); ко второй категории относятся «проклятые» писатели – будущие классики, которые ни в коем случае не должны получить признания раньше времени; они делают специальные жесты, чтобы ссориться с публикой и предупреждать преждевременные роды своей репутации; их успех запланирован на дальнюю, возможно даже посмертную перспективу. Очевиден экономический редукционизм такой схемы: в ней писатель, создающий книги, ничем не отличается от издателя, распространяющего книги чужие, – тот ведь тоже может либо ориентироваться на стремительный оборот однодневок, либо приобретать впрок шедевры, которые еще не скоро получат себе признание и рыночный спрос; эти издательские стратегии Бурдье тщательно анализирует со статистикой в руках. И вот посредством таких стратегий, в ходе расчетливой «алхимической» игры со временем вырабатываются символические – в данном случае литературные – ценности, вместе с иллюзией, благодаря которой они кажутся нам вообще чуждыми экономике и расчету:
Такое видение вещей, когда аскезу в земном мире делают предпосылкой загробного спасения, имеет своим принципом специфическую логику символической алхимии, когда инвестиции должны окупаться лишь в том случае, если они тратились (или казалось, что тратились) безоглядно и бескорыстно, как будто даром, когда обеспечить ценнейший из ответных даров – «признательность» – можно лишь переживая свой дар как безответный; и, аналогично с даром, который превращается в чистый акт щедрости благодаря оккультации ответных даров, здесь экраном служит временной промежуток, скрывающий прибыль, которую сулят самые бескорыстные инвестиции[60].
Время всегда трактовалось у Бурдье как главный фактор практики в отличие от теории: человек практики, находясь в процессе игры (illusio), вовлечен во временное развертывание событий и не может озирать их с птичьего полета, из панхронической перспективы[61]. Время приводит в действие механизм самообмана, оккультации реальной логики вещей, который в марксистской традиции называется «идеологией». Но у Маркса идеология возникает вследствие раскола общества на классы и другие группы, заинтересованные в «неузнавании» реальности, а по Бурдье аналогичный процесс развивается вообще в любой практике – не только классовой или групповой, но и индивидуальной. В том числе и в практике литературной.
Литературный процесс не сводится к процессу создания литературных произведений, он включает в себя и выработку их оценок:
…наука о произведениях имеет своим предметом не только материальное производство произведения, но и производство ценности произведения или, что то же самое, веры в его ценность[62].
Многочисленные акты институционализации – оценки, признания, освящения – имеют не меньшее значение для развития литературы, чем собственно деятельность писателя, пишущего книги. В литературный процесс, наряду с творческой работой литераторов, входит и оценочная деятельность критиков, отборочная деятельность издателей, присвоение писателям наград и премий, судебные процессы против них… Сюда же относится и бесчисленное множество нефиксируемых, недокументируемых бытовых высказываний с литературными оценками. Читатели, мы все, участвуем в литературном процессе не только как пассивные потребители книг, но и как взыскательные оценщики. Из взаимодействия этих оценок – часто противоречащих одна другой, но в итоге дающих некоторую результирующую, – образуется «вера в ценность произведения», не всегда и не вполне фиксируемое в каких-либо текстах и документах отношение общества к произведению. Следует подчеркнуть этот последний момент, недостаточно эксплицированный у Бурдье: в отличие от самих произведений литературы, «вера в ценность» этих произведений не имеет текстуальной природы – она может выражаться, например, чисто статистическими данными о количестве купленных или взятых в библиотеке экземпляров произведения; она может даже иметь и денежное выражение (издательскую прибыль) – и все же включаться в содержание «литературного поля» наравне с текстами литературы.