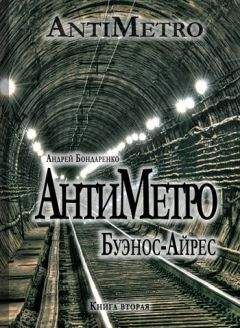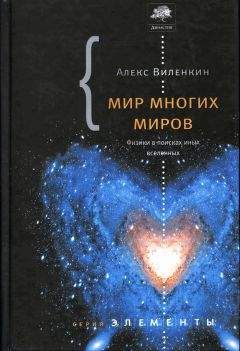Леонид Карасев - Достоевский и Чехов. Неочевидные смысловые структуры
Я уже говорил о том, что отрубание головы оказывается, по Достоевскому, обобщенным образом смерти, не случайно поэтому, что эмблемой убийства оказался именно топор, а не какой-то иной инструмент. Скорее всего, дело тут уже не столько в персональной интуиции Достоевского, сколько в универсальной схеме, укорененной в каждом человеке. Достоевский просто проявил эту схему, сделал се узнаваемой, отталкивающе-привлекательной. В «Дневнике писателя» он даже домысливает отрезание головы, описывая один из услышанных им случаев. Ужасающий образ гильотины и сложивший голову Иоанн Предтеча не давали ему покоя, выразившись, помимо всего прочего, и в трагикомическом эпизоде в «Братьях Карамазовых», где описан праведник, который, после того как ему отрубили голову, взял ее в руки и пошел с ней, «любезно ее лобызаше»…
Итак, миг смерти и миг рождения можно представить как отделение головы от тела. Вернее, наоборот: сначала нужно говорить о пороговой минуте, о прохождении порога, воспринимаемом как отделение головы от тела, а уж потом о том, к чему это переступание порога приведет, – смерти или рождении. В зависимости от результата меняет свой смысл и весь набор сопутствующих этому акту символов-деталей. Вспомним о чистом или свежевыстиранном белье, которое помогало или мешало некоторым героям Достоевского. Если победа за смертью, чистое белье становится саваном, смертными пеленами для скончавшегося, если торжествует жизнь, то чистое белье превращается в пеленки для только что народившегося младенца; разумеется, в обоих случаях речь идет о духовных сдвигах, происходящих в переступившем порог герое. Чистое белье, которое «неожиданно получилось от прачки» и помогло Ивану Карамазову уехать, т. е. стать убийцей отца – саван для них обоих. Чистое белье, сушившееся на кухне в доме Раскольникова и на кухне старухи-процентщицы, – саван для убийцы и его жертв. Белое платье и простыня – саван для Настасьи Филипповны.
Вместе с тем «удвоенное» чистое белье в судьбе Раскольникова и, особенно, его возвращение в старухину квартиру после убийства, когда квартира уже оклеена новыми белыми обоями, идет как намек на возможное возрождение или излечение. Это еще не «пеленки», но что-то обнадеживающее здесь уже есть. Несомненный благой смысл заключен в «белом носовом платке», которым Митя Карамазов обтирал кровь со лба раненного им Григория, и в этот же ряд вписывается Митина «ладанка», сделанная опять-таки из материала, подпадающего под категорию «чистого белья» – из тряпки «тысячу раз мытой». Любопытный оттенок смысла обнаруживается в черной повязке на пальце абсолютного «беса» Петра Верховенского: его цвет – это цвет угля и ночи, это черный саван.
Вообще говоря, символические узлы здесь завязаны очень крепко: детали описания – и «культурные» и «натуральные» – работают на тему рождения так же исправно, как и на тему смерти. Однако таков уж характер пороговой минуты: принося себя в жертву, герой фактически рождает сам себя, освобождается от плода, который носил в себе – от страсти, тоски, вины или идеи. Не случайно самочувствие героев накануне самой важной для их жизни минуты так напоминает самочувствие беременных: удушье, тошнота, головокружение (вспомним Кириллова в «Бесах»: «Жаль, что я родить не умею…»).
От чистого белья, становящегося в зависимости от поворота дела то пеленками для новорожденного, то саваном для покойника, – один шаг до того, чтобы узнать, наконец, в «прачке» – «повивальную бабку».
Порфирий Петрович – не только нависший над Раскольниковым камень возмездия, но и повивальная бабка. Если прачки с их чистым бельем появляются в момент переступания порога, в момент «родов» как таковых, то Порфирий Петрович почти бессменно дежурит возле «беременного» виной и идеей Раскольникова. Отсюда – напрашивающееся сопоставление следственной конторы, куда ходит Раскольников, с родильным домом: случающиеся с ним здесь приступы тошноты, головокружения, обмороки – признаки близкой развязки. Прачка-повитуха помогает «родам» Ивана Карамазова, прислав неожиданно быстро для него чистое белье. Прачка-повитуха мешает разрешиться от бремени идеи Раскольникову, завесив кухню бельем и не давая тем самым ему возможности взять топор. Что до чистого платка Мити Карамазова, то он заставляет вспомнить об эпизоде из Гоголя, где смыслы свежего белья и родов также соприкоснулись друг с другом. Портной приносит новую шинель Акакию Акакиевичу, запеленутую, будто младенец, в «носовой платок», который, как оказывается, тоже «был только что от прачки». У Достоевского типичный новорожденный – это князь Мышкин: не случайно в начале романа так часто упоминается его узелок с чистым бельем. «Пеленки» – это все, что и должно быть у только что явившегося в мир младенца.
Герой Достоевского – это человек, готовящийся к самопожертвованию; это человек, увиденный, захваченный в момент, когда он переступает порог духовного рождения или смерти. Он изменяется, выстраивает себя, прорывается к миру, зовущему и притягивающему его. Если перевести это состояние на язык возраста, жизненной норы, то станет видно, что речь идет о человеке-подростке, о человеке, который мучительно переживает свое взросление и, по сути, так и не может повзрослеть до конца (ср. с готовыми, безнадежно взрослыми героями Гоголя). Характерно, что сам Достоевский настойчиво проявляет именно эту черту у любимых своих героев – у Алеши Карамазова, у Сони Мармеладовой, у князя Мышкина, не говоря уже о закреплении названной темы в названии одного из романов. Человек Достоевского – это «вечный подросток»: может быть, так сложив из двух названий его романов одно, удастся передать главное: в подростке есть и дурное и благое, однако все же, если искать самого важного, то им окажется стремление вырасти, подняться над собой. Когда мы связываем это естественное стремление юности с мотивом движения вверх, который так часто встречается у Достоевского, то видим, как важно и то, и другое. Движение вверх – как синоним рождения-смерти, как стремление к рождению-смерти. Увиденное в окружении христианских символов, среди которых – саван, кресты, колокольная медь, тлетворный дух и камень, напоминающий о победившем тление Лазаре, – это движение вверх дает нам еще один очень важный смысл. Вспомним, при каких обстоятельствах застрелился Свидригайлов: он шел на Петровский, но его остановила высокая каланча и человек в медной каске. Смыслы башни и меди встретились, приоткрыв стоящий за ними образ церковной колокольни и колокола, ведь для Достоевского медь – это прежде всего колокол. Свидригайлову, увидевшему башню, не пришлось на нее подниматься, подобно Раскольникову: на пожарной «колокольне» имеется настоящий колокол, который и спустился к Свидригайлову, отлившись в медь шлема стоявшего перед каланчой пожарника. Свидригайлову хватило намека на колокольню, ему хватило намека на колокол.
Человек Достоевского – это человек-звонарь, звонит ли он по своей загубленной жизни или прославляет имя Христово. Здесь первый звонарь, конечно, – Раскольников, неистово дергавший колокольчик у двери убитой им Алены Ивановны. Звонил и до убийства, и в день убийства, и когда после приходил. Раскольников звонит в колокольчик так, будто пытается расколоть его. Я уже говорил о «телесности» колокола. В самом деле «шлем» колокола сопоставим с телом или головой человека. Железо бьет, медь страдает. Голова «гудит», как колокол. Помимо головы, колокол может быть понят и как тело, причем преимущественно как женское тело: тема раскалывания – устойчивый знак жениховства. Железный язык колокола пытается расколоть медное тело. Колокол с высовывающимся из него билом-языком представляет собой довольно напряженный и противоречивый предмет. Схемы и образы, спрятанные в тотальной памяти человека, улавливают в нем два противоположных друг другу смысловых потока – мужской и женский. Что же касается орудия, которым Митя Карамазов собирался разрешить свой любовный спор с отцом-соперником, то пестик-било из медной ступки-колокола оказался весьма удачной для такого случая вещью или железный «язык» с топором.
И хотя «битье» – единственный способ заставить колокол говорить, звучать, тем не менее, тема страдания все равно никуда не исчезнет. Тут автор бессилен: он лишь проявляет или, наоборот, маскирует этот смысл, снабжая его набором символических деталей, которые в одних случаях прочитываются то как синонимы рождения, то как синонимы смерти. В колокольном звоне – похоронном, поминальном или в радостном благовесте, славящем Рождество и Воскресение Спасителя, обозначены полюса, между которыми умещается весь мир человеческого страдания, радости и надежды. В этом смысле образ колокола, звенящего с высоты колокольни, и есть самый важный символ Достоевского.