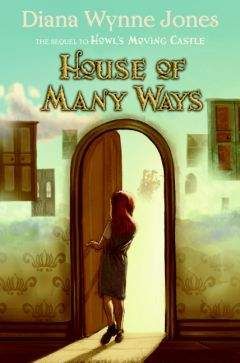Рашит Янгиров - «Живые черты Ходасевича»: из откликов современников

Обзор книги Рашит Янгиров - «Живые черты Ходасевича»: из откликов современников
Рашит Янгиров
«Живые черты Ходасевича»: из откликов современников
Как известно, Владислав Фелицианович Ходасевич (1886–1939) не принадлежал к числу героев литературных салонов и любимцев «читающей» публики, хотя о его творчестве современники писали немало. Питая стойкую нелюбовь к любым формам публичности, он избегал интервьюеров и репортеров светской хроники, тщательно оберегая свою частную жизнь от внимания не только литературных недругов, но и поклонников.
Едва ли не единственным исключением стал текст «В гостях у Ходасевича», опубликованный в начале 1931 года. Как представляется, эта публикация была весьма важным для Ходасевича знаком реабилитации за известный «горьковский» эпизод, серьезно осложнивший начало его эмигрантской судьбы. Впервые он предстал перед читателем не только как поэт, пушкинист, автор образцовой биографии Державина и литературный наставник, но (что на тот момент было много важнее) и как ведущий литературный критик Зарубежья в весьма влиятельном «возрожденческом» печатном изводе. С той поры Ходасевич не дал журналистам новых поводов для интереса к своей персоне. Даже его пятидесятилетний юбилей в мае 1936 г. прошел неотмеченным и не оставил никакого следа в повременной печати.
Конец земного существования поэта освободил окружающих от молчания. Смерть Ходасевича, маркировавшая, по ощущению многих, не только завершение определенного периода русской зарубежной литературы, но и конец всего довоенного Зарубежья, стала поводом для печатной рефлексии современников, заново оценивших его место в истории русской словесности.
В своем известном отклике Владимир Сирин (Набоков) отвел личности Ходасевича лишь литературное измерение, небезосновательно полагая, что эта ипостась содержит ключ к пониманию его как человека: «Как бы то ни было, теперь все кончено: завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак. Что ж, еще немного сместилась жизнь, еще одна привычка нарушена, — своя привычка чужого бытия. Утешения нет, если поощрять чувство утраты личным воспоминанием о кратком, хрупком, тающем, как градина на подоконнике человеческом образе. Обратимся к стихам».
Набоковская эпитафия странным образом увела в тень отклики других, не менее именитых современников — Георгия Адамовича, Владимира Ильина, Александра Керенского, Георгия Мейера и Дмитрия Мережковского — выразивших свое отношение к литературному дару Ходасевича. Среди некрологистов были и те, кто обратился к личностным характеристикам Ходасевича. Эти тексты сохранили для истории литературы живые наблюдения и иные свидетельства о поэте, по каким-то причинам не привлекшие внимания биографов и историков литературы.
Стимулом к нашей работе стало знакомство с вашингтонским архивом издателя и редактора Романа Николаевича Гринберга (1893–1969). В нем хранятся и материалы, относящиеся к творческой биографии Ходасевича, и, кроме того, — уникальный биографический документ: общая тетрадь с газетными вырезками — откликами на смерть Ходасевича, собранными Ольгой Борисовной Марголиной-Ходасевич (1890–1942). Архивная легенда этой и других меморабилий Ходасевича представляется следующей: после II мировой войны родственники вдовы поэта передали остатки его архива Нине Берберовой, она в свою очередь на рубеже 1949–1950 гг. подарила часть этих материалов библиофилу и собирателю исторических раритетов Р. Н. Гринбергу, в благодарность за поддержку при ее переезде из Европы в США.
Тексты воспроизводятся в соответствии с нормами современной орфографии и пунктуации; в квадратных скобках восстановлены пропущенные буквы или слова.
Публикатор выражает искреннюю признательность администрации Отдела рукописей Библиотеки Конгресса США (Вашингтон) за любезное разрешение ознакомиться с материалами своих русских коллекций и воспроизвести их в современной печати, а также Тамаре и Юрию Дихановым, Павлу Юзвикову (Бетесда, Вирджиния, США) и Николаю Богомолову (Москва) — за деятельную и всестороннюю помощь в работе.
Наталья Городецкая [1]
В гостях у Ходасевича
— Владислав Фелицианович, каковы возможности русской поэзии?
— Ого! Вы другим таких коварных вопросов не задаете… Но ничего… Давайте и об этом.
— Ходасевич — нервный, худощавый, говорит отрывисто, покачивается на стуле, рукою тронет перо, подвинет его и вдруг отпрянет, и выжидательно смотрит на собеседника.
— Я издали начну… Был такой день, когда Державин, «в гроб сходя, благословил» молодого Пушкина. Для всех это было неожиданностью, и для самого мальчика, но не для Державина. Он уже года два как искал себе преемника — и жест был неслучайный. Он еще раньше написал, что передает лиру Жуковскому, да так эти стихи и остались под спудом. Дело в том, что в какой-то момент Державин как бы оглох и перестал слышать свое время, отошел от своей эпохи. Тогда и стал искать не второго, а нового Державина. Поэзия не есть документ эпохи, но жива только та поэзия, которая близка к эпохе. Блок это понимал и недаром призывал «слушать музыку революции». Не в революции дело, а в музыке времени. Поэзия движется, как пяденица — знаете? (Большой и указательный палец [Ходасевича] растянулись на столе). Так — а потом подтянется и отдыхает и осматривается, и тут встречается с новым…
Худые, очень длинные пальцы несколько раз повторяют движение. Глядя на свою руку, В. Ф. продолжает:
— Сегодняшнее положение поэзии тяжко. Она очутилась вне пространства — а потому и вне времени. Дело эмигрантской поэзии по внешности очень неблагодарное, потому что кажется консервативным. Большевики стремятся к изничтожению духовного строя, присущего русской литературе. Задача эмигрантской литературы сохранить этот строй. Эта задача столь же литературная, как и политическая. Требовать, чтобы эмигрантские поэты писали стихи на политические темы, — конечно, вздор. Но должно требовать, чтобы их творчество имело русское лицо.
В. Ф. поправляет очки, откидывает со лба черную прядку.
— Подмена русского лица лицом, так сказать, интернациональным совершается в угоду большевикам и обычно прикрывается возвышенным принципом «аполитичности». На самом же деле — просто хотят создать нерусскую поэзию на русском языке. Но нерусской поэзии нет и не будет места ни в русской литературе, ни в самой будущей России. Ей лучше бы навсегда обосноваться в каком-нибудь Данциге, где делаются различные международные спекуляции и, кстати, котируется червонец. Вот только я думаю, что не надо приставать к «аполитическим» поэтам, допытываясь, почему они отвертываются от политики. Такие вопросы — либо наивность, либо сознательное прикрывание дурной игры. Аполитические весьма занимаются политикой. Они не хотят не политики, а России… Кстати: почему-то всегда они либо расшаркиваются перед советской литературой, либо хихикают по адресу эмигрантской.
Я прерываю:
— Но ведь возможность поэтического делания остается?
В. Ф. говорит резко:
— Разумеется. Очень. Но явятся ли настоящие люди — не знаю. Я считаюсь злым критиком. А вот недавно произвел я «подсчет совести», как перед исповедью… Да, многих бранил. Но из тех, кого бранил, ни из одного ничего не вышло.
Он смеется и добавляет:
— А вот на кого я возлагал надежды — из многих все-таки ничего не вышло. Предсказывать с именами не возьмусь — боюсь, что опять перехвалю. В данное время милее других мне группа «Перекрестка»… Вы замечали на карте метро такую соединительную линию — Navette. Где-то она, кажется, около Pre-St.-Gervais, или… да… нет, не знаю. Словом, пряменькая такая линия. Вот и роль эмигрантской литературы — соединить прежнее с будущим. Конечно, традиция — не плющ вокруг живых памятников древности. Беда в том, что многие пишут «под». Свои стихи писать трудно и есть громадный соблазн и легкость –дописывать чужие… Видите ли, надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и — в новой форме — будущим. Как вам сказать… Вот Робинзон нашел в кармане зерно и посадил его на необитаемом острове — взошла добрая английская пшеница. А что, кабы он его не посадил, а только бы на него любовался, да охранял, чтобы, не дай Бог, не упало? Вот и с традицией надо, как с зерном. И вывезти его надо, и посадить, и работать над ним, творить дальше. Главное, совершенно необходимо ощутить себя не человеком, переехавшим из Хамовников в Париж, а именно эмигрантом, эмигрантской нацией. Надо работать — и старым, и молодым. Иначе — катастрофа. Литературе не просуществовать ни в богадельне, ни в яслях для подкинутых младенцев… Что же касается принципиальной возможности… Глупости, что ничего нельзя создать! Три эмиграции образовали три новых и великих литературы: Данте; вся классическая польская литература — Мицкевич, Словацкий и Красинский; у французов — Шатобриан и [де] Сталь.