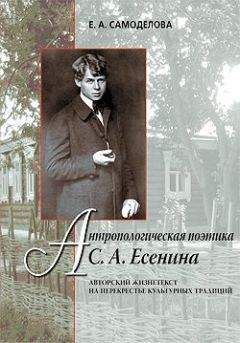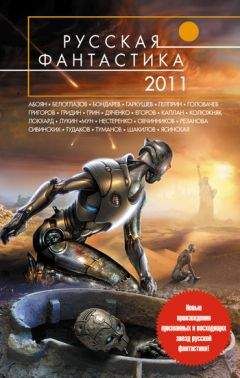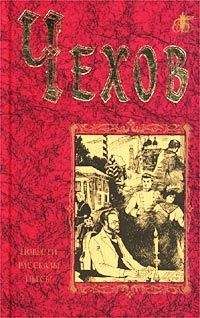Константин Исупов - Метафизика Достоевского
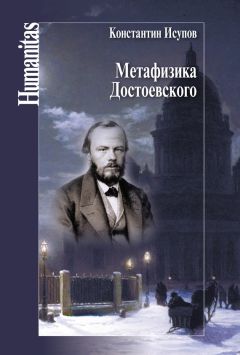
Обзор книги Константин Исупов - Метафизика Достоевского
Константин Исупов
Метафизика Достоевского
Humanitas
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института российской истории, Института философии Российской академии наук
Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, П.П. Гайденко, И.Л. Галинская, В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева, В.К. Кантор, А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, М.П. Крыжановская, Л.А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов
Научный редактор: И.И. Ремезова
Серийное оформление: П.П. Ефремов
В оформлении книги использованы фрагменты картины В. И. Сурикова «Вид на памятник Петру I на Исаакиевской площади в Петербурге» (1870)
Введение
Наследие Достоевского – вечная тема мировой философской культуры. Есть нечто судьбоносное в той неотвратимости, с какой писатели и мыслители Запада и Востока, не говоря уже об отечественных культуртрегерах, обращаются к Достоевскому как к Великому Учителю, который что-то такое знал о Боге, мире и людях, чего не знал никто. Дело даже не в сумме этого знания, а в его новом качестве и способах репрезентации. Герои Достоевского изживают опыт жизни как опыт души и сердца. Иначе говоря, они изживают его метафизически, т. е. тем органом самосознания, чьи трофеи предъявлены читателю как нерациоидные объекты предельной сложности.
Почему для таких разных людей, как Т. Мании Н. Бердяев, Г. Гессе и Вяч. Иванов, Л. Карсавин и Мураками, проза Достоевского стала надежным источником глубокомысленных и даже изощренных художнических и философических архитекгоник?
Достоевский раскрыл подлинные горизонты внутреннего человека. С его опытами авторитет описательной прозы впервые серьезно пошатнулся. Отдельные прорывы к герою-интроверту были; так, Л. Толстой впервые в «Войне и мире» изобразил внутреннюю речь героя. И все же вражду И. Тургенева и Достоевского, как и не-встречу Л. Толстого с великим современником можно, помимо внешних причин, объяснить и тем, что писателю-описателю с «психологом в высшем смысле» говорить было не о чем.
Достоевский – классик философской прозы. За плечами у Фёдора Михайловича были «Герой нашего времени» и «Русские ночи», но лишь Достоевскому удалось создать героя-идеолога, свободного от авторского диктата, с автономным голосовым приоритетом и личной волей высказывания. Ничего похожего мировая литература не знала. Свобода речевого поведения героя – одна из главных новаций Достоевского. Более того, он показал, что свобода эта может оказаться греховной и опасной, неподъемной и невыносимой (Раскольников, кн. Мышкин), она готова обернуться самоизоляцией и самонаказанием, стать дорогой к смерти.
Библейская история грехопадения началась со свободного поступка. В прозе Достоевского история эта разыгрывается вновь и вновь, утверждая вечную правду мифа в социальной реальности вечной неправды исторического мира. Достоевский научил видеть субстанциональное в акцидентальном.
Достоевский изобрел и показал в пластике художественной реальности новую социальную психологию общения. Из нее выросла в России и на Западе философия диалога, ставшая фундаментом диалогической философии, нужду в которой заявила культура рубежа XX и XXI веков. Проза Достоевского красноречива, его герои – пророки, риторы и ораторы, болтуны и графоманы. В «Дневнике писателя» художественные тексты (поэтика) переслаивают журналистику (риторика). В его прозе найдутся и «говорящие штаны» (по убийственной реплике В. Розанова о Д. Мережковском), вроде Опискина, и мастера апофатического речения («Бедные люди», «Записки из подполья»), и эстеты словесного жеста (Ставрогин), и носители приоритетного слова, т. е. слова, в первый раз говорящего последнюю правду (кн. Мышкин, Зосима), и мастера речевого прельщения (Великий Инквизитор), и даже специальный «почвенный» ангел словесной наивности (Алеша Карамазов). Но дело не только в разнообразии форм говорения, а в том, что Достоевский приравнял высказывание к поступку. Речевой жест стал физическим действием; чем-то это напоминает гипноз.
Суггестивное слово Достоевского оказало ошеломляющее воздействие на читателя, – и читатель изменился. Он научился жить в романах великого писателя, они стали для него средой метафизического обитания и новым способом жизни. Достоевский перекроил русского человека и показал своему современнику, что он больше себя самого, значительнее, ответственнее и умнее. Человек-артист открыт не Ницше, а Достоевским.
Так в прозе Достоевского вызревала новая антропология – комическая и трагическая вместе.
Открытия Достоевского впечатляют своими результатами, но еще более – теми возможностями, которые они раскрывают для всего ряда наук о человеке и для искусства слова.
Мы надеемся, что серия очерков, составивших книгу, поможет читателю уточнить подлинные контуры философско-художественного и эстетического наследия писателя.
Любые замечания будут приняты с благодарностью.
Выражаем сердечную благодарность редколлегии серии и персонально – Светлане Яковлевне Левит за хлопоты в подготовке книги к изданию.
Глава 1
Метафизика Достоевского (онтология и теология)
Тайнозрение
Что такое «метафизика, могущая возникнуть в качестве науки»[1]о Достоевском?
Метафизика до Достоевского питалась романтическими представлениями об Абсолюте: П.Я. Чаадаев, масоны, славянофилы, любомудры. Лучшее, что можно было ждать от контуров такой философии, это: 1) эстетизованные формы запечатления опыта в духе той традиции, что суммировали немецкая мистика и Шеллинг; 2) явленная в импрессионизме лирического образа (С. Бобров, В. Жуковский) поэтика переживания «тайн бытия»; 3) трагическая персонология и натурфилософия в литературе классического романтизма в его сложном сплетении с барокко (Ф. Тютчев); 4) катастрофизм с примесью полумасонского мистицизма, которые русская мысль пыталась интегрировать то в «картину мира человека» (по названию трактата А.И. Галича, читанного Макаром Девушкиным), то в «апокалиптический синтез» (последняя фраза последнего из «Философических писем» П.Я. Чаадаева), то в программы энциклопедического гнозиса, в котором «инстинктуальное» (душевное) начало органично слито с универсальным знанием и «способностью критического суждения» (В.Ф. Одоевский); последняя позиция в философско-религиозном плане полемично дополнилась организмической идеологией соборности (А.С. Хомяков; почвенники).
С Достоевским метафизика определилась как: 1) род особого качествования бытия и, соответственно, некая программа описания его ирреальных состояний («языки» онтологии); 2) область неочевидного знания и неверифицируемого опыта («языки» гносеологии); 3) проблематизация мотивов поведения человека («языки» этики и философии истории) и, наконец, как 4) философия творчества и – шире – персоналистский проект самоосмысления «я» и «мы» в ситуации креативного соприсутствия красоте Божьего мира («языки» эстетики).
Поскольку в трудах Достоевского мы имеем дело с вопросами человеческого существования в Божьем мире, его авторская метафизика носит онтологический характер: человек предстоит Богу и миру как вопрос – ответу. Этот тип метафизики внятен современному читателю с появлением в его кругозоре трудов М. Хайдеггера, определением которого мы не слишком корректно воспользуемся. «Метафизика в собственном смысле слова, – говорит он в лекции 1929 г., – принадлежит к “природе человека”. Она не есть ни раздел школьной философии, ни область прихотливых интуиций. Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие»[2].
Не следует тешить себя надеждой, что метафизика в роли теории бытия в себе и формы философского знания может быть извлечена из текстов Достоевского в готовом виде, как алхимический камень из реторты.
Подобно тому, как камень алхимиков – никакой не камень, а искомая вслепую универсальная химическая формула-рецепт превращения неблагородных металлов в благородные, так и метафизика на территории художественной прозы и публицистики писателя – не приведенная в систему гносеологическая инструкция.
Но она, эта художническая метафизика, переживаемая автором и героем, способна обнаружить свой проблемный репертуар, возможный горизонт его развертки в масштабе исторического дня и в аспекте будущего, показать возможности человеческого уразумения, сценарии внутреннего опыта, проникновение эмпирической действительности в топосы самонаблюдения, самоосознания и самооценки, вывести смутные предчувствия на поверхность речевого общения, оформить интуитивное и непосредственное знание в более или менее внятный дискурс. Словом, она может многое, но эта эстетически выразительная метафизика никогда не предоставит нам готовых решений и выводов, к которым торопится теоретическая метафизика философских трактатов, университетских лекций и диспутов. Мы можем сколько угодно увлекаться реконструкциями и деконструкциями метафизических контекстов прозы Достоевского, воссоздавать теологические и философические тени великой прозы и даже достигать на этом пути впечатляющих результатов (Н. Бердяев, А. Камю, А. Штейнберг, Р. Гвардини, Г. Лаут), но романы Достоевского останутся «всего лишь» романами, а «Дневник писателя» – журналом.