Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
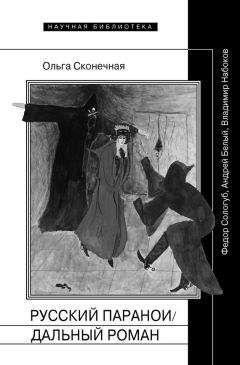
Обзор книги Ольга Сконечная - Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
Ольга Сконечная
Русский параноидальный роман. Федор Сологуб, Андрей Белый, Владимир Набоков
Введение
В жутковатом пейзаже стриндбергского «Ада» попадается множество случайных предметов. Среди них сухие веточки на дорожке Люксембургского сада, которые лежат там как будто просто так, но в действительности они служат шифром, отчетливо указывающим на нечто. Они – улика потусторонних сил и материализация направляющей героя «невидимой руки». Поскольку весь текст – некое, почти документальное свидетельство духовного опыта, эти веточки – часть его, запечатленный автором знак или сигнал, подтверждающий, что этот мир – арена действия духов. «Когда однажды утром я иду по Rue de Fleurus… и захожу в Люксембургский сад, который в полном цвету прекрасен, как сказка, то нахожу на земле два сухих, оторванных ветром сучка. Своей формой они напоминают две буквы: p и y. Я поднимаю их, и меня вдруг озаряет мысль, что P-y – это сокращение фамилии Поповский (Popoffsky). Он, значит, все-таки преследует меня, и высшие силы хотят уберечь меня от опасности»[1].
Те же веточки встречаем мы в философском пейзаже Делеза и Гваттари, пейзаже, запечатлевающем не столько физическое, сколько мысленное пространство, особую мысленную траекторию: «… жена как-то странно посмотрела на вас; а утром консьерж вручил вам письмо из налоговой инспекции и скрестил пальцы; потом вы наступили на кучу собачьего дерьма, увидели две деревяшки на тротуаре, соединенные подобно стрелкам часов; они шептались за вашей спиной, когда вы вошли в контору. И не важно, о чем все это говорит, оно всегда что-то означает»[2]. Странный взгляд – скрещенные пальцы – соединенные деревяшки – все это вновь знаки, не ясные, но нарочитые и потому враждебные. Сделавшись стрелками, веточки-деревяшки указывают здесь на способ познания действительности. Вполне возможно, что в качестве эмблемы они отсылают не только к упомянутым рядом пациентам Бинсцвангера и Ариети, но и к нашему фрагменту из Стриндберга: недаром авторы говорят о нем в том же тексте. Согласно Делезу и Гваттари, эта нота, или таинственный и губительный привкус реальности, является нам в обыкновенном процессе познания, в нормальной семиотической процедуре, «означающем режиме», ибо он, как считают философы постмодерна, по природе своей «деспотичен». В этом скольжении от знака к знаку самой деспотией языка, его законом навязывается тень смысла – таинственного и агрессивного, подобного текучей, неопределенной «мане» туземцев, магической субстанции, оседающей на предметах. «Мы оказались в ситуации, описанной Леви-Строссом: мир начинает означать до того, как мы знаем, что он означает: означаемое дано, не будучи известным»[3].
Мы далеки от того, чтобы руководствоваться столь глобальной посылкой. Дальнейшее исследование скорее базируется на предположении о кризисных периодах культуры, благоприятствующих расцвету параноидально-мистического мышления в форме философских, художественных (и бытовых) построений. Здесь, по-видимому, можно вспомнить о ситуации смены или перестройки «эпистемы», если перейти на язык М. Фуко, смены условий или способа мышления. Может быть, нечто подобное подразумевает Ж. Лакан, замечая, что в истории человечества бывают моменты, когда приходят «новые означающие». «Появление новой сферы, например новой религии, не есть нечто такое, с чем мы можем легко справиться. ‹…› Возникает переворот значений, изменение общего чувства… а также и все виды феноменов, называемых откровениями, которые могут показаться достаточно разрушительными, чтобы термины, которыми мы пользуемся при психозах, были в отношении к ним вовсе не применимы»[4].
Моментом вспышки новых смыслов явился рубеж веков, и эти новые «означающие» приводятся у Фуко как идеи, радикально поменявшие вектор и модус мысли, и также статус литературного текста. Среди них: «утопия причинного мышления» как «конец истории», попытки опознания «немыслимого», т. е. бессознательного, под разными личинами, кризис классического субъекта в философии и размывание индивида в литературе[5].
В самом деле, развертывание этих тенденций происходит на особом фоне. Страх, ожидание ужаса и готовность к нему, ощущение тотальной угрозы, подозрительность мистически-оккультного и политического толка составляют колорит времени. Характерное для эпохи переживание преследования воспринимается как нечто подлинное, как знамение глубинной наблюдательности и посвященности. Это состояние описано А. Стриндбергом, cвидетельствующим изнутри процесса: «Произошло столько ужасного, непонятного, что поколебались даже самые неверующие. Бессонница усиливается, нервные припадки учащаются, видения в порядке вещей, творятся истинные чудеса. Все ждут чего-то»[6]. «…Странное время, в котором мы живем: оно перевернуло весь мир. Воцарились таинственные силы!»[7] «Я пытаюсь утверждать, что мы находимся лицом к лицу с новой эрой, “в которой духи пробуждаются и хорошо становится жить”. Эти angina pectoris, приступы бессонницы, все эти ночные страхи, которые пугают наши чувства и которые врачи охотно причисляют к эпидемическим заболеваниям, не что иное, как дела невидимых сил»[8].
В духе Фуко можно заметить, что в это «странное время» необычен сам статус безумия. Точнее, патологическое оказывается в предельной близости к искусству, составляет его материал, вдохновляет его творцов. Очевидное подтверждение этой близости – декларации и творчество декадентов, как и восприятие их фигур в отчетливой раме диагноза. Cо стороны психиатров и социологов близость оправдывалась теорией дегенерации[9]. Так, И. А. Сикорский собрал произведения подлинной «патологической литературы», трактаты о «всемировом двигателе», «тайне языка», «кристаллах духа» и проч., и на основе их описал новую клиническую форму, которую назвал «Idiophrenia paranoidеs – своеобразный умственный склад, сходный с помешательством и напоминающий по своей внешности паранойю»[10]. В подтверждение термина Сикорский замечал, что авторам свойственно «параноидное мышление», «характеризующееся наличностью идей величия в соединении с идеями преследования», а также «несомненные способности в области символического мышления», проявляющиеся, однако, в том, что пишущие опираются «не на логику фактов, а на логику слов, заменяя истинные фактические основы предмета фиктивными, символическими», отчего, скажем, параграф, трактующий о душе, превратился у больного автора в «параграф о пищеварении и выделениях, а самая душа получила такой грубо-материалистический облик, какого она не имела у самого крайнего материалиста»[11]. «Idiophrenia paranoides, – замечал Сикорский, – часто сочетается со склонностью к литературным занятиям, и открытая форма, по его мнению, получала “наибольшее значение” в виду ее близкого отношения к тем новым (а может быть и не новым!) течениям в литературе и искусстве, которые известны под именем символизма и декадентства»[12]. С другой стороны, психиатр-либерал, светский человек, ценитель искусств и литератор, председательствующий в Кружке свободной эстетики, Н. Н. Баженов пытался осознать это притяжение литературы к патологии по-иному. Он предпочитал «дегенерации» Маньяна и Нордау идею «прогенерации», сложностей переходного периода на пути к высшему психическому типу. По словам И. Сироткиной, «называя декадентов “вырождающимися”, Баженов видел в них материалы, собранные великим зодчим для создания чудного, но еще не построенного здания»[13]. Впрочем, если верить Белому, в участниках Кружка Баженов видел «пациентов», да и вообще был одним из средоточий мирового масонского зла[14]. Со своей стороны, писатель вывел его в романе «Маски» в фигуре репрессивного психиатра, это зло проводящего.
Вместе с тем интересно другое. Литература стремится заимствовать специальный язык болезни и во многом делает это благодаря представлениям патологических картин в учебниках. Уже старинная психиатрия повествует о симптомах душевного расстройства как о мире иного, автономного сознания. Она говорит о «бреде значений», добавочном смысле, который примешивается к восприятию реальности. Болезнь сказывается не просто в ложном, но особенном складе мысли: «Явилось в небе облако, это – символ грозящей от врагов беды, рост деревьев, вид местности – все наводит его на те или другие соображения… эти намеки видит он также в рисунках на обоях»[15]. Больной по-особому внимателен и проницателен по отношению к действительности. Уличная разноголосица звучит для него симфонией оскорблений. Он угадывает обидный смысл в мелодиях, которые насвистывают мальчишки, «он и в чириканье птиц подслушивает насмехательство над собой». Психиатры специально отмечают необычность восприятия слова и удивительные операции, которым оно подвергается у больных. Бред черпает свой материал в случайных репликах, газетных объявлениях, заметках, расписании поездов, названиях лавок, в церковной проповеди и Священном Писании. Уже замечено, что превращение необязательного и невинного в угрозу, откровение или пророчество, иными словами, все то, что называет Корсаков «невозможными символическими перетолкованиями», осуществляется подчас именно средствами языка: переставлением слогов, акцентированием фонетической оболочки и проч.



