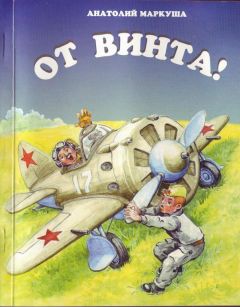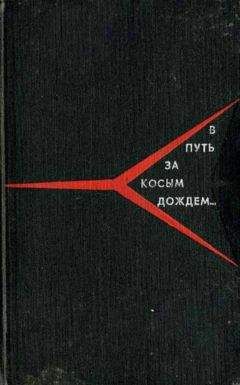Анатолий Маркуша - НЕТ
– Превышение предела необходимой обороны, – сказал Зыкин, – подводится под статью сто одиннадцатую…
– Помолчите, майор! – оборвал Зыкина подполковник и уставился на совершенно никчемное пресс-папье, по старинке украшавшее его канцелярского вида стол. Должно быть, с минуту подполковник думал, потом энергично поднялся со своего просторного кресла и сказал:
– От лица службы приношу вам, Виктор Михайлович, свои извинения. Не смею вас больше задерживать и еще раз прошу извинения.
Они раскланялись. Хабаров дошел до двери, потом, будто вспомнив что-то важное, вернулся снова к столу.
– Да, а Зыкина, подполковник, особенно не прижимайте. Ругать его бесполезно. Заставьте его учиться. Ему обязательно надо учиться и как можно больше читать. Насколько я успел заметить, он мужик старательный, кругозора ему, правда, не хватает, культуры маловато, а так он может…
Подполковник неопределенно улыбнулся, а Хабаров продолжал настаивать:
– Служба у вас, конечно, неблагодарная, но дело все-таки с людьми приходится иметь. Я бы на вашем месте послал Зыкина в университет культуры. Пусть растет, пусть развивается, и для души это полезно и для службы…
Подполковник улыбался, а Зыкин глядел на Хабарова затравленно и недобро.
Уже на улице Хабаров протянул руку Кравцову и совсем другим, извиняющимся тоном сказал:
– Прости за беспокойство, Федор Павлович, – поглядел на свои штурманские часы, мотнул головой: – Сейчас до дому добегу, переоденусь и через полчаса буду на аэродроме.
– Не надо, – сказал Кравцов, – ты же не спал. Отдыхай иди.
Начлет хлопнул дверкой и поехал на аэродром. Хабаров пошел домой. Ему очень хотелось спать.
Но стоило Виктору Михайловичу очутиться дома, принять обжигающий тело душ, выпить большую чашку очень крепкого кофе, и спать вроде бы расхотелось. Хабаров прилег на диван, вытащил с самодельной полки томик Лонгфелло и стал читать. Взаимоотношения с поэзией у него были довольно сложные: вряд ли он решился бы заявить громогласно, что любит стихи, постоянно следит за новыми книгами поэтов, ревниво сравнивает творчество молодых с теми, кого давно почитает образцом. Он не любил споров о поэзии, совершенно не терпел так называемых критических разборов. Стихи представлялись ему сферой глубоко интимной, сугубо личной.
Вдруг зеленый дятел Мэма
Закричал над Гайаватой:
"Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!"
В легких перьях, в халцедоне
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом…
Хабаров читал медленно, наслаждаясь. Он любил Лонгфелло и перечитывал его постоянно; иногда с удовольствием останавливался и внимательно разглядывал рисунки художника Ремингтона – прекрасные перовые миниатюры.
И все-таки Виктор Михайлович заснул. Волшебник Лонгфелло убаюкал Хабарова ласково и незаметно. Спал он крепко, снов не видел, спал спокойно, как спят здоровые дети и взрослые, если у них, у взрослых, чистая совесть и уверенность – все сделано так, как должно.
Виктор Михайлович проснулся оттого, что по комнате кто-то ходил. Еле слитно, осторожно. Он открыл глаза и увидел мать.
– Мама, ты чего приехала?
– Я тебя разбудила, Витенька?
– Очень хорошо, я давно уже сплю, пора вставать. Ты чего рано вернулась?
– Забеспокоилась что-то и приехала. У тебя сегодня ночные?
– Нет, это я после ночных добирал малость.
– Устал?
– Немного есть.
– Все было хорошо?
– Все было нормально.
– Честно, Витя?
– Честно.
– Есть хочешь?
– Есть я всегда хочу, ты что, не знаешь?
– Ну и хорошо, сейчас я тебя покормлю, – и она ушла в кухню. А он подобрал с узорчатого ковра, давным-давно привезенного из Средней Азии, томик "Гайаваты" и с удовольствием почитал еще немного:
Вслед за первою стрелою Полетела и вторая, Понеслась быстрее первой, Поразила глубже первой, И колени чародея, Как тростник, затрепетали, Как тростник, под ним согнулись…
Он пообедал вместе с матерью. И Виктор Михайлович решил свой случайный выходной день превратить до конца в праздник.
– Мам, а что, если я в цирк съезжу? Не возражаешь? Мать знала, как Витя любит цирк – эта любовь жила в нем с детства, – и нисколько не удивилась.
– Конечно, поезжай, Витя; раз хочется и раз есть время, почему ж не поехать?
– А ты не хочешь?
– Я уже стара для цирка. Вот когда в балет соберешься, тогда другое дело…
Он засмеялся. В балете Виктор Михайлович был всего один раз в жизни. С Кирой. И осрамился – заснул во время первого же акта.
Из цирка Виктор Михайлович вернулся не поздно, мать еще не ложилась.
– Ну, я тебе скажу! Я тебе скажу – таких прыгунов в жизни не видел! Представляешь, заднее сальто на ходулях без страховки крутят! И темпик у них – с ума можно сойти! Как все пятеро начинают мелькать, голова кругом идет…
– У кого, у тебя голова кружится?
– Почему у меня? У широких масс трудящихся. Хабаров уселся за стол и принялся во всех подробностях рассказывать про акробатов, про какого-то исключительного жонглера – работает с восьмью мячами!
Мать слушала сына, смотрела на него во все глаза и думала: "Пусть бы он каждый день ездил в цирк, только бы возвращался домой с молодыми глазами, без удручающей синевы под нижними веками, без горьких складок вокруг рта, входил бы легким шагом, а не волочил пудовые ноги, как после трудных и не очень удачных полетов".
Почему-то она вспомнила, как однажды, теперь уже очень давно, Виктор, служивший в строевой истребительной части, поручил ей отвезти генералу Бородину какие-то необходимые для перевода на испытательную работу документы.
Генерал Бородин оказался тучным мужчиной с грубым лицом, большими, словно у кузнеца, руками, с совершенно необъятной грудной клеткой, распиравшей мундир. Бородин принял мать незамедлительно. Раскрыв плотный серый пакет с документами, он мельком взглянул на бумаги и спросил:
– А вы, собственно, кто ему будете?
– Я? Мама его, – сказала Анна Мироновна и смутилась.
– Мама? – переспросил генерал. – У такого большого сына и такая маленькая мама?
Мать не нашлась, что ответить, и только улыбнулась.
– А вы знаете, мама, на какую работу оформляется ваш сын? – сказал генерал и погладил бумаги, лежавшие на столе.
– Конечно, знаю.
– И не боитесь?
– Вы считаете, товарищ генерал (это обращение прозвучало, наверное, довольно странно, но ведь она была когда-то военным врачом, майором медицинской службы), что Витя недостаточно хороший летчик для такого дела?
– Почему недостаточно хороший? Ваш сын – отличный летчик. Я не о нем беспокоюсь, о вас…
– Витя всегда хотел быть испытателем. А я уверена: человек должен быть тем, кем хочет…
Мать собиралась сказать еще что-то, но не успела: генерал вылез из-за стола, быстро подошел к Анне Мироновне и потянулся, к ее руке. Мать совсем растерялась, когда Бородин, неуклюже согнувшись, неловко поцеловал ей руку.
- Ну, мама, ну, мама, я вам скажу, мама: вы – первый случай в моей практике! Счастливый человек ваш сын. Такую маму, на руках носить надо…
Воспоминание это мелькнуло и исчезло. Мать снова вернулась к действительности.
Виктор Михайлович сидел верхом на стуле, обхватив руками спинку; и продолжал рассказывать про цирк.
– Вить, я совсем позабыла: Вадим Орлов тебе звонил, просил, когда придешь, чтобы дал знать.
И, сразу оборвав свой рассказ, Хабаров спросил:
– Что у него там стряслось?
– Не знаю. Просто просил позвонить.
Хабаров набрал номер телефона штурмана и, услышав его медленный, будто спросонья, голос, спросил:
– Спишь? Это я.
– Не сплю. Как жизнь, циркач?
– Нормальная жизнь. Ты чего звонил?
– Может, зайдешь?
– Почему такая срочность? Что-нибудь не так?
– Все так, никакой срочности нет. Просто я по тебе соскучился. Мы же не виделись со вчерашнего дня. Заходи. Можно в тапочках.
– Сраженный его миндально – мармеладной нежностью, он расправил голубые консоли и немедленно вылетел на свиданье. В полетном листе было написано: любовь до гроба. Как понял? Прием! сказал Хабаров и повесил трубку.
– Ну что? – спросила мать.
– Говорит, соскучился, просит зайти.?
– Вы же вчера ночью вместе летали, когда ж он успел соскучиться??
– Вчера ночью мы как раз врозь летали, – усмехнулся Виктор Михайлович, – но дело не в этом. Я схожу.