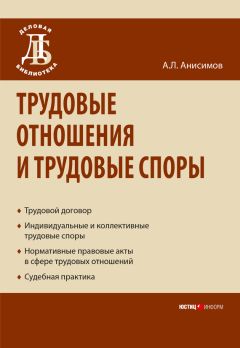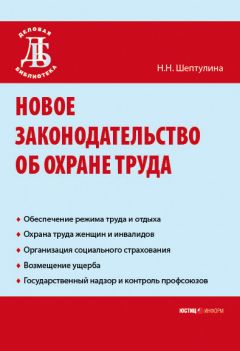Георгий Бабат - Магнетрон
— Теперь мало кто так поет, — сказала Дуня. — Это шаманское пение.
— Песня — действительно настоящая колдовская. Вы и шаманить умеете? — снова обратился к Улагашеву неугомонный Волков.
— А как же, конечно умею, — совершенно серьезно ответил тот.
— Видите у него на щеке шрам? — объяснил Борис. — Это за борьбу с шаманством, получен еще в 1922 году. Шаман здесь один тогда был, поклялся убить Павла Васильевича за то, что тот его перешаманил…
— Да что старое вспоминать! — отмахнулся Улагашев. — Решение надо принимать, товарищи.
Он вынул из кармана свернутую трубкой тетрадь и протянул ее Волкову:
— Сами теперь все видели, а тут мои наблюдения, карта, геологические данные.
Волковой Жуков занялись тетрадью и картой. Время от времени они задавали Улагашеву вопросы, то спорили с ним, то соглашались по отдельным пунктам. Улагашев оказался человеком упрямым. Как и во всех обсуждениях, где участвовал Волков, не обошлось без взаимных колкостей.
Веснин считал себя обязанным высказать и свое мнение, а потому слушал спорящих очень внимательно. Но, как это ни странно, слушая обсуждение проблем, связанных с предстоящим здесь грандиозным строительством, и даже вдумываясь в слова каждого из собеседников, он в то же время видел своим мысленным взором там, далеко за черными кедрами, за синими холмами, за крутыми горами, не корпуса будущего мощного электротехнического предприятия, а мерцающую подобно маленькой звездочке золотистую мушку на легкой, как облако, голубой косынке. Эти мимолетные, хрупкие, как сновидения, образы были так призрачны, столь невесомы, что их невозможно было разгадать, запомнить, записать. Слова прозвучали бы слишком определенно, тяжело, грубо. Мечтания возникали и исчезали, словно зыбь на воде, а река текла своим путем. И когда Жуков обратился к Веснину с вопросом, тот ответил вполне разумно, и даже Волков признал:
— Толково. Интересная точка зрения.
— Спокойной ночи, товарищи! — сказал Улагашев, — Хорошо мы сегодня поработали!
Он поднялся и ушел. Его лошадь, звеня бубенцом, подвязанным к шее, щипала траву рядом с буланой лошадкой, на которой ездил сегодня Веснин.
Жуков и Волков пошли в дом. Веснин и Борис остались посидеть у догорающего костра.
Веснин достал из кармана бумажник. Пригласительный билет на заседание Технического отделения Академии наук все еще лежал там, даже несколько билетов метро, но осколков металлизированной мухи он не нашел.
Из-за холмов послышался густой, мягкий и сильный голос. Это пел Улагашев.
— О чем он поет? — спросил Бориса Веснин.
Борис перевел:
Если стременем воду черпну,
Глотнешь ли?
Если на расстоянии дня ждать буду,
Придешь ли?
Угли костра подернулись сединой золы. Звезды над кедрами казались очень большими, близкими и влажными. А Улагашев- всё пел:
Если ладонью воду черпну,
Выпьешь пи?
Если на расстоянии месяца умирать буду,
Вспомнишь ли?..
«Стерегущий»
Когда Волков, Жуков и Веснин летели обратно в Москву, самолет почти все время шел в сплошных облаках. Временами машина попадала в полосу дождя, и по окнам кабины бежали струйки воды. Веснин отметил, что струи дождя текли почти горизонтально, и попытался вычислить, во сколько раз скорость полета их машины больше скорости падения капель дождя. За все время полета земля была видна только в отдельные короткие мгновенья.
Пилот держал курс по сигналам радиомаяка. Веснин тоже слушал передачу. С маяка передавали веселые песенки и романсы. В интервалах между пластинками коротко попискивали позывные сигналы, и снова звучала музыка. Очевидно, дежурный на маяке любил Чайковского. Веснину за этот полет довелось несколько раз прослушать пластинку Вы очень хороши, но мне какое дело. Эти слова еще вертелись в голове Веснина, когда он вместе с Жуковым входил в Главное управление электрослаботочной промышленности.
В наркомате состоялось совещание по вопросам проектирования нового завода, и той же ночью Жуков и Веснин «стрелой» выехали в Ленинград.
Веснин проснулся в поезде рано утром, когда проезжали станцию Чудово. Присев поближе к окну, он стал разбирать бумаги, лежавшие в новом красивом портфеле, который ему подарил нарком.
Поезд приближался к Ленинграду. Веснин со все возрастающей заботой думал о заводских делах.
Вначале он думал о будущем, самом близком… Но постепенно мысль его уносилась все вперед и вперед. В его воображении возникали планы новых смелых опытов, исследований… Все пережитое в Москве ушло далеко в прошлое. Путешествие на Восток осталось тоже позади. Всеми мыслями, чувствами Веснин уже был в Ленинграде, у себя в лаборатории…
Он посмотрел в окно. Поезд шел мимо Ижорского металлургического завода. Высокие красные и серые трубы выпускали облака дыма. В огромных закоптелых окнах цехов были видны отблески пламени сталеплавильных печей. Слышались тяжелые удары паровых молотов. Затем показались ажурные мачты и сложные сплетения проводов электрической подстанции завода. К ней с разных сторон подходили линии высоковольтной передачи.
Поезд шел не останавливаясь. Прогремел под колесами мост Обводного канала. Справа и слева вставали корпуса элеваторов, фабрик. Поезд бежал мимо зданий завода «Красный треугольник», мимо вновь строящихся кварталов жилых домов.
— Северная Пальмира, — вздохнул Веснин. — Как прекрасен этот город, воспетый еще Ломоносовым и Державиным, как он непрерывно растет, меняется…
— В гостях хорошо, а дома лучше, — сказал Жуков.
— Сознаюсь, Николай Александрович, — улыбнулся Веснин, — я по заводу очень соскучился.
На перроне Жукова встречал тот самый молодой шофер с очень пышными рыжими усами, который возил Веснина и Артюхова в заводской санаторий к Дымову.
— Владимир Сергеевич, — сказал Жуков, — если вы не возражаете, я могу подвезти вас на завод.
Когда Веснин сел в машину, Жуков попросил шофера подъехать сначала к заводскому дому, в котором жил Веснин.
— Вы сможете чемодан отнести к себе, — говорил Жуков Веснину, — а мы подождем вас, ведь это недолго.
Машина катила по людному, оживленному Невскому проспекту. Проехали Садовую, и за зеркальным стеклом витрины «Гастронома № 1» Веснин увидел знаменитую карусель, построенную Муравейским. Но, против обыкновения, она сегодня не вращалась, а стояла неподвижно.
Свернули направо, проехали площадь Жертв Революции, машина легко взбежала на Троицкий мост. Открылась перспектива проспекта Красных Зорь. Слева, за решеткой парка, возник на фоне утреннего неба памятник «Стерегущему».
Веснин с удивлением отметил, что обычно непроницаемое и суровое лицо Жукова как-то помолодело, потеплело.
— Не могу без волнения смотреть на этот памятник «Стерегущему», — сказал Жуков. — Двадцать седьмого февраля семнадцатого года я, только что выписанный из госпиталя солдат, очутился здесь, увлеченный потоком людей. Говорили, будто восстал против царя Волынский полк, что забастовали петроградские фабрики и заводы, что казаки отказались стрелять в восставших, братаются с народом. Толпа все росла. Ближе к центру, за памятником, люди уже не умещались на тротуарах, сплошной массой шли прямо по проспекту.
Собралось, наверно, тысяч тридцать всякого народа, и все, не сговариваясь, направились к Таврическому дворцу, где помещалась Государственная дума. Перед зданием думы уже стоял… не помню сейчас, какой… полк. Солдаты пели «Марсельезу». Появились откуда-то красные флаги.
Вдруг выходит на крыльцо громадный, тучный человек и начинает зычным голосом выкрикивать речь. Были в ней и хорошие слова, слова, каждое из которых, взятое само по себе, дорого всякому русскому человеку: «Долг перед Родиной», «Родина-мать зовет», «Россия — наша Родина!» Но общий-то смысл его речи, оснащенной этими дорогими словами, сводился к тому, чтобы солдаты выполнили взятые на себя царем обязательства перед Антантой и пошли опять проливать кровь: «Не позволим врагу проклятому погубить… Нерушима присяга, чудо-богатыри!» И всё это — со всевозможными, чисто актерскими модуляциями, которые очень действуют на людей малоискушенных. Закончил он призывом к войне до победного конца. Но тут рядом с оратором оказался человек в простой солдатской гимнастерке. «Вот, — говорит он, — товарищи, господин Родзянко требует от вас, чтобы вы русскую землю спасли… У господина Родзянко есть что спасать, немалый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли! А может быть, и еще в какой-нибудь есть? Например, в Новгородской? Там, говорят, едешь лесом… что ни спросишь: чей лес? — отвечают: родзянковский. Так вот родзянкам и другим помещикам Государственной думы есть что спасать. Эти свои владения, княжеские, графские и баронские, они и называют русской землей. Ее и предлагают вам спасать, товарищи. А вы вот спросите Михаила Владимировича Родзянко, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля из помещичьей станет вашей, товарищи?»