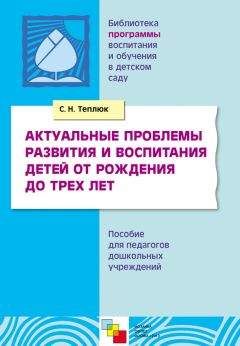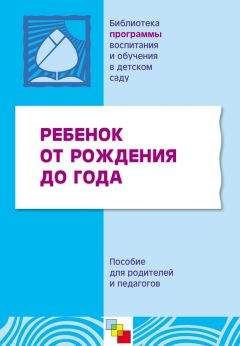Евгений Елизаров - Великая гендерная эволюция: мужчина и женщина в европейской культуре
Первые мануфактуры (шелковые) появились еще в XII веке в Византии. В конце XII века они появляются в Италии. Там же возникают и первые бумажные. Тогда же в XII веке во Франции создаются мануфактуры по изготовлению зеркал, в Англии – столовых ножей. В XIV веке в большинстве стран Западной Европы возникают предприятия, занимающиеся изготовлением холодного оружия, в XV веке – каретные и т. д. С конца XIV – начала XV вв. повсеместно распространяются металлургические и металлообрабатывающие, в том числе проволочные.
Разумеется, это не значит, что не остается художников от ремесла. Но в Новое время в своей массе городской простолюдин теряет способность самостоятельно производить сложные вещи. А значит – сохранить и собственную самостоятельность. Он становится рабом сложившейся системы разделения труда и кооперации. Вне ее он уже не способен прокормить себя и свое семейство. Условием существования работника становится существование мануфактуры, исчезни она – и под угрозой окажется его собственная жизнь.
Мануфактуру сменяет машинное производство. Оно в еще большей степени лишает человека былой независимости. «В мануфактуре рабочие отличались один от другого по изготовляемым каждым деталям, или по выполняемым каждым из них операциям. Машинное производство заложило новые основы дифференциации рабочих, которые стали теперь отличаться друг от друга по станкам, на которых они работали[507]. Человек становится придатком даже не производства, а машины: «В мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, на фабрике он служит машине. <…> В мануфактуре рабочие являются членами одного живого механизма. На фабрике мертвый механизм существует независимо от них, и они присоединены к нему как живые придатки»[508].
Сравним квалификацию работников ремесленной мастерской и фабрики. Простой подмастерье, как мы уже видели, мог получить доступ к самостоятельной работе лишь через несколько – от двух до восьми – лет ученичества. Форд же, характеризуя подготовку рабочих кадров, в своих воспоминаниях приводит совершенно другие величины: «Для обучения различного рода работам требуется следующая затрата времени: для 43 % общего числа работ достаточно одного дня, для 36 % от одного до восьми, 6 % от одной до двух недель, 14 % от месяца до года, 1 % от одного до шести лет»[509]. Это показывает, что, сохраняя потребность в небольшом количестве мастеров высокого класса, становление массового производства сопровождается деградацией остальных работников. В ремесленной мастерской редкий ученик не превзошел бы своим мастерством 99 % рабочих фордовского конвейера.
Вкратце подытоживая, можно сказать: «слово» «слову» – рознь. Есть, как уже говорилось, вторая сигнальная система, есть и третья. Обе оперируют «словами», но творчество начинается только там, где их значение подвергается пересмотру. Любое новое знание является продуктом третьей, но застывая, формализуясь, оно становится элементом второй. Между тем обучение, о котором говорится здесь, организуется таким образом, чтобы исключить любую ревизию «слова», чтобы ограничить его жесткими рамками. А значит, в конечном счете так, чтобы исключить самую возможность творчества. Отсюда сознание человека, назначенного к механическому роботизированному труду в условиях мануфактуры, и уж тем более машинного производства, в свою очередь претерпевает изменения. Средневековый мастер-ремесленник и робот промышленных революций отличаются друг от друга не только уровнем квалификации, но и системой мышления. В городской культуре творческая самостоятельность в сфере материальной деятельности становится доступной лишь немногим, и это не может не сказаться на статусе ее интегрального субъекта. Другими словами, на статусе «среднестатистического» мужчины, который в своей массе становится техническим исполнителем чужого замысла.
8.1.5. Перераспределение ценностей
Итак, мы видим, что уже ко времени буржуазных революций складываются два полюса семьи нового типа, две разительно отличающиеся друг от друга и вместе с тем схожие в главном ее формы. Одна образуется в среднем классе на стыке второго и третьего сословий, другая – бегущим из деревни крестьянством. Их единство состоит в том, что обе перестают быть ключевым субъектом межпоколенной коммуникации, обеим от единого программного кода жизнеобеспечения социума нечего передать своему потомству. Все монополизируется единым социальным организмом, стоящим над индивидами и над кровнородственными группами, поэтому обе формы превращаются в (теперь уже не зависимое ни от кого) простое сожительство полов и возрастов.
Точно так же, как поступающий на службу дворянин перестает быть носителем заслуг своего рода, бегущий в город мужчина перестает быть монопольным носителем тайны родового занятия и окончательно теряет способность вне социума обеспечить себя и свою семью. В стремительно развивающейся городской культуре это обстоятельство лишает его решающего преимущества перед женщиной. Он продолжает оставаться «кормильцем», – но и только. Утрачивая право (а вместе с ним и способность) на творческую самостоятельность, он деградирует как личность. А следовательно, и как носитель иной, более возвышенной природы, мужчина, во всяком случае в основной массе этого контингента, перестает существовать. Именно эта масса очень скоро станет переполнять растущие города. Добавим, что к рассматриваемому времени организуются и женские производства: «Наши предки – бургомистры и совет города Кельна – в год от рождества господня 1437 в мае месяце, в понедельник, следующий за днем св. Люции, учредили женский шелкоткацкий цех, утвердили его на прочных законах и предписаниях и дали означенным ткачихам устав, приложив к нему городскую печать <…>. Устав был дан по предложению и нижайшей просьбе наших дорогих и верных бюргерш и жительниц из числа ткачих шелковых изделий…»[510]. Словом, нередко женщина становится таким же «кормильцем», как и мужчина, и это, в свою очередь, не может не влиять на распределение гендерных ролей.
Так что историческое превращение деревенского мигранта из хозяина «дела» в неквалифицированного слугу, более того, раба машины
(…Был нужен раб, чтоб вытирать ей пот,
Чтоб умащать промежности елеем,
Кормить углем и принимать помет[511])
происходит на фоне поступательного развития женщины.
Кстати, не только в социальных «низах», но, в других сословиях оно имеет другую природу. Если на время забыть о женщине городских низов и даже о той, которая принадлежит к аристократическим фамилиям (там хорошей образованностью удивить трудно), мы увидим, что женщина среднего класса,
…пока
Твоя глава, владыка. Полон заботы
Он о тебе и о твоем довольстве,
Он трудится на море и на суше.
Не спит ночей, выносит бурю, холод[512],
получает возможность развиваться; хороший достаток, досуг, позволяющий переложить даже заботы о доме, детях на плечи служанок, формирующаяся в ее среде культурная норма, наконец, просто мода на образованность рождают потребность в духовной пище. Отвечая вызовам времени, она обращается к книгам, и это, в свою очередь, сокращает дистанцию, которая складывалась между полами.
Уместно отметить еще одно немаловажное обстоятельство, о котором позднее заговорит упомянутый выше Ч. П. Сноу. С развитием производительных сил общества культурные запросы мужчины по преимуществу сдвигаются в сферу «другой», техногенной, культуры и прикладного, утилитарного знания. В свою очередь, женщина, принадлежащая не только высшему обществу, но и в средних слоях, становится активным потребителем гуманитарных ценностей. Так, уже дамы «Кентерберийских рассказов» свободно цитируют античных философов и проявляют похвальную широту мысли. Конечно, можно предположить, что многое в их уста вкладывает сам Чосер, однако приводившийся выше пример его младшей современницы Кристины Пизанской показывает, что чрезмерного преувеличения здесь нет. Между тем вплоть до XIX века только гуманитарная образованность будет относиться к культуре «первого сорта»; все прикладное ранжируется по более низкому разряду и не идет в сравнение с ценностями классического образования. Можно по-разному относиться к этому обстоятельству, но здесь тоже культурная норма, которая не может быть игнорирована никем. «Ошибаешься, – горячо возразил Мартин. – Все люди и все слои общества или, вернее, почти все люди и слои общества подражают тем, кто стоит выше. Ну, а кто в обществе стоит выше всех? Бездельники, богатые бездельники. Как правило, они не знают того, что знают люди, занятые каким либо делом. Слушать разговоры о деле бездельникам скучно, вот они и определили, что это узкопрофессиональные разговоры и вести их в обществе, не годится. Они же определили, какие темы не узкопрофессиональные и о чем, стало быть, годится беседовать: это новейшие оперы, новейшие романы, карты, бильярд, коктейли, автомобили, скачки, ловля форелей или голубого тунца, охота на крупного зверя, парусный спорт и прочее в том же роде, – и заметь, все это бездельники хорошо знают. По сути, это – узкопрофессиональные разговоры бездельников. И самое смешное, что многие умные люди или те, кто слывет умными людьми, позволяют бездельникам навязывать им свои дурацкие правила»[513]. Уже хотя бы для того, чтобы не задеть женщину, простим Мартину Идену «бездельников», и отметим, что эта культурная норма, в свою очередь, способствует ее возвышению.