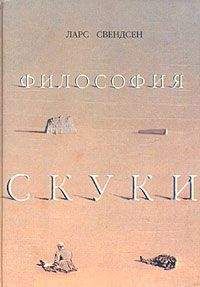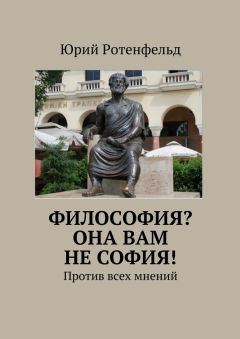Георг Зиммель - Избранное. Проблемы социологии
И санитарно-полицейские предписания, преподносимые в виде божественных заповедей, как это принято в древнееврейском законодательстве; и установления VII–VIII вв., существовавшие в немецких землях в эпоху насаждения там христианства, согласно которым убийство и клятвопреступление относились к юрисдикции церкви и карались церковным покаянием, которое налагал епископ как за нарушение установленного Богом порядка; и покорность князю как следствие того, что его осеняет благодать Божья, – все говорит о том, как внутри общества развиваются отношения, которые никогда не возвысились бы до степени религиозности, если бы они не обладали социальным значением. И в процессе этого восхождения они развивают те энергетические импульсы и потенциалы, те формы, к созданию которых они предрасположены в силу своих внутренних, а не заимствованных из сферы трансцендентных ценностей, эмоциональных сил и значений. Они никогда бы не сблизились со сферой трансцендентных сущностей, если бы присущая именно им духовная ценность, их объединяющая сила, их конкретность и целеустремленность представили им, разрушив ограниченные рамки их земного существования, перспективу, открывающую путь к восхождению на религиозный уровень.
II
Глубинное основание, опираясь на которое категория религиозности может стать формой социальных связей, создано благодаря удивительному сходству, существующему между отношением индивидуума к божеству и его отношением к социальной общности. Решающую роль здесь играет прежде всего чувство зависимости. Индивидуум чувствует себя привязанным ко всеобщему, высшему, к тому, из чего он возникает и куда уходит, чему он отдает всего себя и от чего он в то же время ожидает освобождения и избавления, от чего он отличен и с чем он все же тождествен. Бога назвали coincidentia oppositorum[53], в нем видят как бы фокус, в котором безраздельно сливаются все противоположности бытия. Он вмещает неисчислимое множество нюансов и отношения души к Богу, и Бога к душе. Любовь и отчуждение, смирение и наслаждение, восхищение и раскаяние, отчаяние и надежда – все это не только оттенки, по очереди привносимые различными периодами такого отношения, нет, каждое из этих чувств оставляет свой след в основном, главном отношении души к своему Богу, так что все эти противоречия, все перепады этих настроений душа словно втягивает в себя одним вздохом и вновь выдыхает. Сам Бог справедлив, но в своем всепрощении он выше справедливости. В античном мире он стоит, так сказать, над партиями, хотя в то же время принимает участие в событиях, становясь то на одну, то на другую сторону. Он абсолютный повелитель мира и тем не менее позволяет миру идти своим путем, в соответствии с его собственными непреложными законами. И поскольку изменчивые отношения между человеком и его Богом охватывают весь диапазон возможных связей в их последовательности и одновременности, они явно повторяют типы отношений, существующих между индивидуумом и той общественной группой, той социальной общностью, к которой он принадлежит. Здесь мы видим то же подчинение индивидуума могущественной верховной власти, которая предоставляет ему определенную меру свободы; полное приятие, сменяющееся отрицанием; самоотвержение, не исключающее, однако, мятежа; воздаяние и кара; связь между частью и целым, причем часть в то же время сама стремится стать целым. Смирение, с которым благочестивый верующий за все, чем он является и что имеет, благодарит Бога, видит в нем первоисточник своего существа и своей силы, в особенности характерно для отношения индивидуума к общности. Ибо человек по отношению к Богу – это не просто полное ничтожество, пустое место, ничто; нет, это только пылинка, слабая, но вовсе не ничтожная сила, сосуд, готовый наполниться божественным содержанием. Так в религиозных и социологических формах существования индивидуумов обнаруживаются одинаковые черты. Социологическим формам достаточно лишь соприкоснуться с религиозным настроением или проникнуться им, чтобы возникла, в сущности, форма религии как самостоятельный образ мыслей и действий. Вовсе не думая об этой всеобщей взаимосвязи, но тем убедительнее доказывая ее существование, один специалист по древнесемитской религии рисует следующую картину: «У арабских героев в эпоху, непосредственно предшествовавшую возникновению ислама, поразительным образом отсутствовала религия в обычном смысле слова; боги и божественные дела занимали их очень мало, и к вопросам культа они относились с полным небрежением. Однако к своему роду они испытывали нечто вроде религиозного благоговения, и жизнь сородича они почитали священной и неприкосновенной. Это мнимое противоречие становится объяснимым в свете древнего воззрения, согласно которому Бог и его почитатели образуют сообщество, внутри которого и отношения верующих друг с другом, и их отношение к божеству в равной степени носят священный характер. Первоначальной религиозной общностью был род, и все обязательства и соглашения, заключавшиеся между родственниками, в то же время представляли собой элементы религии, и даже если значение родового божества падало и оно со временем было почти предано забвению, все же сущность родовой религии утверждала себя в неизбывной святости кровного родства». Можно сказать прямо – существуют социальные отношения, взаимосвязи между людьми, являющиеся по сути своей религиозными. Это именно те коммуникативные ценности, которые, оторвавшись от своего непосредственного социального интереса, составляющего их содержание, и воспарив в трансцендентное измерение, и означают религию в узком, собственном смысле слова. Вообще та дифференциация норм, о которой я говорил выше, исторически выступает в еще более узкой форме, проводящей различие между религиозным и социальным долгом. За пределами буддизма и христианства эти два понятия повсюду совпадают. Во всем античном мире, а также у племен, находящихся на первобытной стадии развития, служение богам является составной частью жизни политической и семейной общины, свойственной ей в той же мере, что и язык членов этой общности; отказ от исполнения религиозных обрядов был равносилен отказу от исполнения своего воинского долга или желанию создать свой собственный, непонятный никому язык. Даже буддизм свидетельствует об этом, хотя и в негативном смысле. Он совершенно лишен элементов социального. Его идеал – монашеский, допускающий, правда, при случае жертвенность и страдания, принимаемые за других. Но не ради этих других, а ради самого жертвующего и страдающего и спасения его души. Буддизм проповедует полную отстраненность от жизни общества. Самоизбавление означает для него лишь самоотречение от всех форм бытия, как социального, так и природного, – буддизм знает лишь обязанности человека по отношению к самому себе, и если в связи с этим он говорит и о благе других, то подразумевает под этим «благо всех живых существ», – идея, острейшим образом направленная против социально-политических перегородок, установленных на основе разграничения общественных обязанностей в античном и вообще нехристианском мире, впрочем, существующих и среди большинства христиан. Но ведь буддизм – это совсем не религия. Это учение о спасении, которого стремящийся обрести его может добиться в одиночку, абсолютно самостоятельно, благодаря своим собственным желаниям и помыслам, и которое осуществляется целиком само по себе, если он выполняет условия его обретения, заложенные в самом, строе его души. Избавление от страданий, единственное содержание буддизма, не нуждается ни в трансцендентной силе, ни в милосердии, ни в посреднике, оно не дается, а осуществляется само по себе как логический результат отказа души от всех жизненных желаний. Причиной того, что здесь между социальными и религиозными обязанностями нет никакой связи, постоянно – если не считать некоторых нюансов христианской культуры – проявляющейся повсюду, является то, что буддизм просто лишен обоих членов этой связи, этого соотношения – он, с одной стороны, не содержит социальных норм, а с другой – не является религией. Во всем остальном мире – отчетливее всего у древних семитов, греков, римлян – ритуал совершения жертвоприношений, молитва, весь религиозный культ не является личным делом частного лица, а входит в обязанности индивидуума как сочлена определенной группы, которая считается полностью ответственной за религиозные прегрешения индивидуума. И именно поэтому жизнь античного общества могла целиком протекать под знаком религиозного отношения к миру; религиозность со всеми присущими ей сакральными моментами, которая, если рассматривать ее с чисто внешней стороны, представляется лишь побочным явлением, сопровождающим социальные запросы и требования, в действительности образует внутреннее, по самой своей сущности нерасторжимое единство с ними. То обстоятельство, что общественные потребности поставлены под защиту религии, что отношение индивидуума к обществу приравнено к его долгу перед Богом, является лишь проясняющим или объективирующим ситуацию результатом развития эмоционально-чувственных побуждений и импульсов, присущих социальным связям и отношениям изначально, так сказать, имманентно. Этот возврат энергетических импульсов, развивающихся в первоначальных явлениях и затем выходящих за их пределы, представляет собой довольно распространенный факт духовной жизни. Самое поверхностное и далекое от истины объяснение этого явления дается с помощью понятия силы. Между двумя материальными объектами происходит сближение, на этой основе возникает понятие «сила притяжения», которая, как утверждают сторонники этой трактовки, вместе с ее «законом» в конце концов величаво воспаряет – одному Богу известно, каким образом, – над миром, указывая ему правый путь своими невидимыми дланями. Уже несколько глубже понимает дело тот, кто полагает, что поведение человека в среде его обитания определяется «обычаем». Разумеется, именно непосредственное практическое значение такого поведения и его целесообразность с точки зрения жизненных интересов данной группы освящает его и придает ему статус «обычая», следовать которому обязательно. По меньшей мере невозможно так легко отделаться от ощущения, что обычай как некая идеальная сила возвышается над жизнью общества подобно какому-то объединяющему всех его членов единству, определяющему, каким именно образом должна протекать эта жизнь во всех ее мельчайших деталях. Но наибольшее значение этот процесс обретает там, где действия, возникшие на основе социальной целесообразности или просто в силу сложившегося порядка вещей, находят себе оправдание в религии. Ведь поскольку религия, являясь порождением души, черпает свое содержание из множества других источников, она создает регламентирующие нормы и для многих других сфер жизни. Она является точкой пересечения, в которой встречаются все чаяния и устремления души, как только они созреют и обретут определенную широту. По этой причине мы могли в начале этого исследования назвать религию одной из тех категорий или требований, которые позволяют изобразить всю полноту жизни в виде особой, выдержанной в единой цветовой гамме, всеобъемлющей картины. Итак, если нормы социального взаимодействия приобретают религиозный характер, то речь при этом идет не только о новом названии, под которым скрывается заимствованное из практики общественной жизни содержание, – нет, факты общественного бытия вносятся в имеющее всеобщий характер, еще наполненное другим содержанием представление, сливаются с внутренними энергетическими импульсами иного происхождения, так что обращенная вспять санкция является не только прежней санкцией в новом обличии; старая санкция, разумеется, живущая в системе новых норм, усиливается и расширяется, обретая собственную форму благодаря другим религиозным предметам, одновременно входящим в состав большого единства и формирующим его. Ведь если содержание трансцендентных объектов действительно составляется из тех взаимоотношений души с природой, с судьбой, с собственными идеалами, с индивидуумами, обществом и человечеством, которых объединяет в единое целое только одно – подступающее к ним, окутывающее их религиозное настроение, – то именно благодаря этому слиянию гетерогенных элементов в некие ценности возникают совершенно новые образования, представляющие собой нечто большее, нежели механическую сумму составляющих их элементов, и особое значение которых в этом единстве невозможно определить в точных показателях. Я перехожу теперь к рассмотрению отдельных социологических ситуаций и отношений, обладающих религиозной окраской; я не считаю, что они обрели ее в виде какого-то дара или требования со стороны уже существующей религии, наоборот – они сами могут, черпая из собственной сокровищницы религиозных ценностей, прийти к религии. Основное религиозное настроение получает на их основе дополнительное оформление, и благодаря подъему этого настроения на трансцендентный уровень и в силу его объективации, опредмечивания, происходит и развитие предметов религии в обычном смысле слова; причем последние могут, разумеется, в свою очередь давать этим ситуациям, обстоятельствам и отношениям новые импульсы религиозной святости и силы.