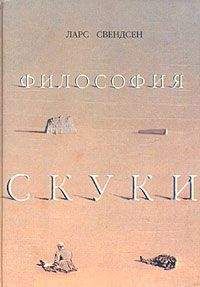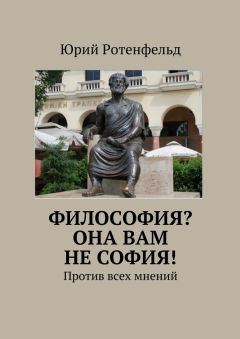Георг Зиммель - Избранное. Проблемы социологии
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: полезностью и редкостью. Полезность здесь выступает как первое условие, заложенное в самом характере (Verfassung) хозяйственных субъектов, только при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А для обретения конкретной высоты отдельной ценности, к полезности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы хозяйственные ценности захотели устанавливать путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы полезности, а предложение – моменту редкости. Полезность была бы решающей при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость – в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Полезность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует рассматривать как чисто негативный момент, так как она означает исключительно (количественное) отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, то есть то, что вообще не касается качественной сущности объекта. Полезность же, как представляется, существует до всякого хозяйства, сравнения, соотнесения с другими объектами и, как субстанциальный момент хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Однако, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием полезности (или нужности). В действительности здесь имеется в виду вожделенность объекта. Никакая полезность предмета не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из нее не следует вожделенность предмета. И действительно, так получается не всегда. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хозяйственно вожделеемое подводить под понятие полезности, то тогда логически необходимо (а иначе не все полезное также и вожделеемо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не является чем-то абсолютным, избегшим относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия. трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделеемый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я его хочу отдать за первый или первый – за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая – она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность – для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, т. е. обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную, ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «полезность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, можно при отсутствии внешнего масштаба установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как некое объективное свойство самих вещей, а само равенство было ничем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета – тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же предмет у меня есть – и тогда мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но – по своей сущности и понятию – всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на обретение; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал действительного или мыслимого обмена сообщает предмету некую ценность.
Относительность ценности – вследствие чего данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, становятся ценностями только в процессе взаимоотдачи и взаимообмена – заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между той и другой нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория, как кажется, оказывается опровергнута. Однако теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически имеет какую-то ценность, означает, что она имеет эту ценность для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые (Wechselbegriffe), оба они одно и то же положение дел выражают в разных формах, как бы в состоянии покоя и в движении.
Философия труда
Все экономические исследования вращаются вокруг центральной проблемы – экономической ценности. Что такое ценность, как она воплощается в вещах, как она затем распределяется, как она нами воспринимается? Понятно, почему мы задаемся подобного рода вопросами – ведь ценностью вещи мы называем именно то, что привлекает наш интерес к этой вещи, тот внутренний процесс – вследствие своей фундаментальности не поддающийся определению – без которого невозможно практическое отношение ни к чему на свете. Всякое человеческое творчество есть по своей цели творчество ценностей, и даже разрушение может привлекать лишь постольку, поскольку оно есть разрушение ценностей. Над миром бытия возвышается мир ценностей, мир, правда, существующий лишь в сфере наших стремлений, наших чувств, мир, дающий совершенно иную классификацию вещей и отношений, чем та, которая соответствует простому бытию, но в то же время это самое бытие получает для нас какое-нибудь значение лишь благодаря ему, миру ценностей. И как мало мы в состоянии сказать, что же такое бытие, так как оно уже содержится во всяком представлении, из которого его хотят вывести, так же мало мы можем вывести понятие ценности из какого-нибудь более обширного понятия, которое уже содержит его в себе в скрытом состоянии. Познание, направленное на сущность ценности, может лишь помочь нам во всякой обширной сфере бытия вскрыть те субстанции, процессы или формы, с которыми ценность неразрывно связана, как со своими носителями и выразителями, которые своею величиною указывают величину воплощенной здесь ценности. Так этика в счастье всех или в «доброй воле», или в целостности личности, или в свободной разумности поступков видит тот элемент, с которым в области этики всегда связывается ценность; так философия, определяя истину как тождество мышления и вещей, или как тождество мышления с самим собою, или как воспроизведение мирового процесса в сознании стремится охарактеризовать этим ту форму познания, в которой воплощается его ценность; так эстетика в «принципе прекрасного» стремится выделить ту форму или значение вещей, степень развития которых служит мерилом эстетической ценности; так экономические теории стараются уяснить те факторы, которые в области экономической действительности создают понятие экономических ценностей: факты, что вещи вступают в обмен, что они обладают полезностью, что они сравнительно редки, что они суть продукты труда, служат мостом из мира действительности в мир ценностей и хотя эти факты сами по себе всецело принадлежат миру действительности, но своим существованием они показывают, что, и в какой степени, мы имеем дело с экономическими ценностями, которые сами по себе не подлежат дальнейшему объяснению.