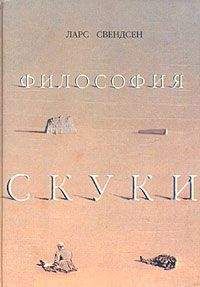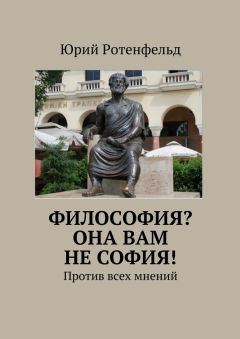Георг Зиммель - Избранное. Проблемы социологии
Здесь дифференциация опять обнаруживает свое отношение к монизму; как только прекращается образование отдельных групп и понятий с резко очерченными границами и в то же время освобождается место для индивидуализации, а вместе с ней – и для опосредствования и постепенности, – так тотчас же образуется связный ряд мельчайших различий, и тем самым вся совокупность явлений предстает как единое целое. Но, в свою очередь, от любого монизма требовалось, чтобы он был принципом, экономящим силы мышления. Конечно, требование это весьма справедливо; но я бы все-таки усомнился, безусловна ли и настолько ли непосредственна его правомерность, как это кажется. Если даже монистическое воззрение на вещи и ближе к действительности, чем, например, догма об обособленных творческих актах и соответствующие теоретико-познавательные допущения, то и оно, в свою очередь, нуждается в синтетической деятельности и притом, может быть, более всеобъемлющей и напряженной, чем та, которая удовлетворяется признанием генетической взаимосвязи между сколь угодно многими рядами явлений, если только кому-то бросается в глаза явное сходство между ними. Конечно, чтобы объяснить всю совокупность физических движений одним-единственным источником сил и их взаимопревращениями, требуется мышление более высокого порядка, чем для того, чтобы для каждого различного явления установить различную причину: для тепла – особую тепловую силу, для жизни – особую жизненную силу или – с известным типичным преувеличением – для опиума – особую vis dormitiva[25]{38}. Наконец, гораздо труднее, пожалуй, познать жизнь души как то единое целое, каким она предстает при разложении на процессы, совершающиеся между отдельными представлениями, чем иметь дело с обособленными душевными способностями и думать, что воспроизводство представлений объясняется «памятью», а способность делать умозаключения – «разумом».
Конечно, там, где монистическое воззрение не коррелирует с дифференциацией и индивидуализацией своих содержаний, оно часто экономит силы, однако не в том смысле, что деятельность принимает иной и в целом более высокий характер, но в смысле косности и инертности. Например (останемся в теоретической сфере), отнюдь не всегда к столь высоким и всеобщим абстракциям, какова, скажем, индийская идея Брамы, восходит сильное мышление; часто наоборот – мысль слабая и неспособная к сопротивлению, которая бежит от суровой жестокой действительности, не будучи в состоянии справиться с загадками индивидуальности, вынуждена подниматься все выше и выше до метафизической идеи Bce-Единого, с которой прекращается вообще всякое определенное мышление. Вместо того чтобы спускаться в темную шахту отдельных явлений мира, из которой только и можно извлечь золото истинного и правильного познания, более неповоротливое и слабосильное мышление просто перескакивает через противоречия бытия, к сопряжению которых оно должно было бы стремиться, и купается в эфире всеединого и всеблагого начала. Но там, где основанный на дифференциации монизм, как в указанных выше случаях, затрачивает больше энергии, чем плюралистический образ мысли, это является, скорее, чем-то преходящим, нежели окончательным. Ведь зато таким образом добываются куда более богатые результаты, так что в сравнении с ними происходит все же меньшая затрата сил, – подобно тому как, например, локомотив расходует гораздо больше энергии, чем почтовая карета, но по отношению к результатам, которых он достигает, он тратит силы гораздо меньше. Так, большое государство с единообразным управлением нуждается в большом составе чиновников, организованном до мелочей по принципу разделения труда; но при помощи такой значительной затраты сил, которая нужна ему ввиду его единообразия и дифференциации, оно выполняет сравнительно гораздо больше, чем было бы выполнено в том случае, если бы та же территория распалась бы на много небольших государственных единиц, из которых каждая в отдельности не нуждалась бы в высокодифференцированном правительственном механизме.
Труднее решается вопрос об экономии сил при такой дифференциации, которая создает враждебные противоположности, как, например, в указанном выше случае, когда корпорация, сначала единая, образует внутри себя несколько различных, противоположных друг другу партий. Это можно рассматривать как разделение труда, потому что тенденции, лежащие в основании образования партий, суть влечения человеческой природы вообще, до известной степени, хотя и не одинаково, присущие каждому отдельному человеку, и можно себе представить, что разнородные моменты, которые прежде взвешивались и относительно уравнивались в голове каждого отдельного человека, теперь перенесены на различных людей и перерабатываются каждым на свой особый лад, причем уравнивание происходит при совместном участии всех. Партия, которая как таковая представляет собой только воплощение известной односторонней мысли, подавляет в том, кто к ней принадлежит, и именно поскольку он к ней принадлежит, все инородные влечения, от которых с самого начала он не бывает обычно свободен. Если мы проследим психологические моменты, определяющие партийность каждого в отдельности, то увидим, что в громадном большинстве случаев она обусловлена не непреодолимой естественной склонностью, но случайными обстоятельствами и влияниями, которым он подвергался и которые развили в нем именно одно из различных возможных направлений и одну из потенциально имевшихся сил, тогда как другие остались в зачаточном состоянии. Этим последним обстоятельством, исчезновением внутренних противодействий, которые до вступления в одностороннюю партию частично отнимают силы у нашего мышления и воли, объясняется власть партии над индивидом, которая, среди прочего, обнаруживается в том, что самые нравственные и совестливые люди участвуют вместе с другими во всей этой безоглядной политической борьбе интересов, которую признает необходимой их партия как таковая, хотя она так же мало принимает в расчет соображения индивидуальной морали, как и государства в отношениях между собой. В этой односторонности заключена ее сила, и это особенно хорошо показывает то, что партийная страсть сохраняет еще весь свой пыл, а часто даже впервые развивает его тогда, когда партийность уже совершенно потеряла свой смысл и значение, когда борьба за положительные цели совершенно прекратилась и только принадлежность к партии, лишенная всякого объективного основания, вызывает антагонизм по отношению к другим партиям. Быть может, самым ярким примером этого являются цирковые партии в Риме и Византии; хотя не было ни малейшего существенного различия между белой партией и красной партией или между голубой и зеленой, тем более что даже лошади и возницы не принадлежали партиям, но содержались предпринимателями, которые отдавали их внаймы любой из них, – тем не менее достаточно было случайно выбрать ту или другую партию, чтобы стать смертельным врагом противоположной. Такой же характер имели в прежние времена бесчисленные раздоры между отдельными семьями, если они продолжались в течение нескольких поколений; часто бывало так, что объект спора уже исчез давным-давно, но факт принадлежности к той или иной семье создавал для каждого члена партийное положение непримиримой враждебности по отношению к другой семье. Когда в XIV–XV вв. в Италии образовались тирании, и разделение на политические партии потеряло благодаря этому вообще всякий смысл, борьба между гвельфами и гибеллинами все-таки продолжалась, но была уже лишена всякого содержания: партийная противоположность сама по себе получила такое значение, что смысл ее стал совершенно не важен. Одним словом, дифференциация, заключающаяся в делении на партии, разворачивает такие силы, значимость которых обнаруживается именно в той бессмысленности, с какой она, часто без всякого ущерба для себя, отбрасывает всякое содержание и сохраняет только форму партии вообще. Правда, всякое социальное соединение проистекает из слабости и неспособности индивида к поддержанию своего существования, и слепая, бессмысленная преданность партии, как, например, в указанных выше случаях, встречается особенно часто в периоды упадка и бессилия народов или групп, когда отдельный человек утрачивает надежное чувство индивидуальной силы, по крайней мере, что касается прежних форм ее выражения. Во всяком случае, в данной форме обнаруживается еще известное количество силы, которое помимо нее осталось бы неразвито. И если благодаря именно такому разделению на партии столько энергии может быть растрачено совершенно впустую, то это является лишь преувеличением и злоупотреблением, от которого не гарантирована у людей ни одна тенденция. В целом, следует сказать: образование партий создает центральные формы, принадлежность к которым избавляет отдельного человека от внутренних противодействий и тем самым приводит его силы к большей эффективности, направляя их в единое русло, где они могут излиться, не встречая психологических препятствий. А благодаря тому что партия борется против партии и каждая содержит в себе в концентрированном виде много личных сил, результат должен обнаружиться во взаимном учете моментов и соответствующих им сил в более чистом виде, скорее и полнее, чем если бы борьба между ними происходила в индивидуальном духе или между отдельными индивидами.