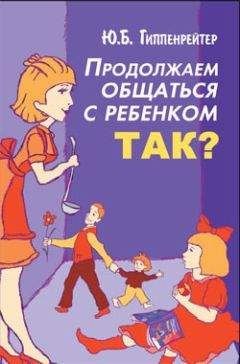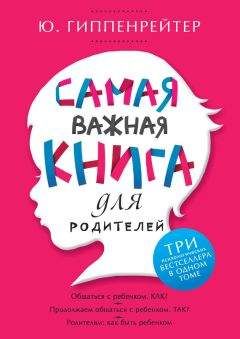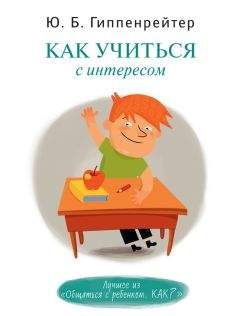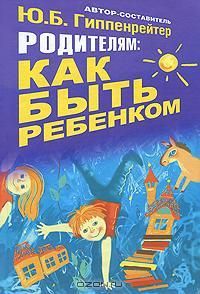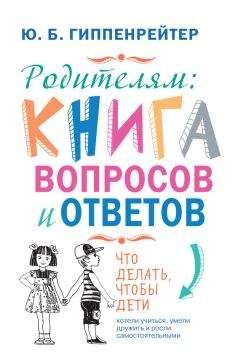Сергей Шавель - Общественная миссия социологии
Во-первых, доминирующая роль ценностей в механизмах саморегуляции и самотрансцендирования индивида. Австрийский психолог, основатель логотерапии (от греч. «логос» – смысл) Виктор Франкл писал: «Существуют авторы, которые утверждают, будто смысл и ценности есть «не что иное, как защитные механизмы, реактивные образования и сублимации». Что касается меня, то я не стал бы жить для того, чтобы спасти свои «защитные механизмы», равно как и умирать ради своих «реактивных образований». Человек же, однако, способен жить и даже умереть ради спасения своих идеалов и ценностей»[164]. К сожалению, в периоды «великий потрясений», «смутного времени» смыслообразующие начала человеческого бытия подвергаются деформации.
Во-вторых, «ценностное единство» есть необходимое условие совместимости людей (в браке, экипаже и т. д.), сработанности, сыгранности, благоприятного психологического климата, командного духа – в любой совместной деятельности (труд, игра и пр.), атрибут зрелого коллектива, способного мобилизовываться на дело (цель), избегая потерь времени и сил на внутренние разборки.
В-третьих, общие ценности, если они существуют и интериоризуются подрастающими поколениями, помогают сохранить целостность и стабильность социума: от семьи до общества. Это положение часто толкуется превратно, например, как стремление к «единомыслию», «однопартийности», «нормативизму» или как оправдание идеологии. Конечно, можно набрать немало примеров манипулятивного насаждения псевдоценностей[165], но не стоит закрывать глаза на то, что все (без единого исключения) такие попытки завершались плачевно и достаточно быстро в масштабах исторического времени. Теоретический анализ показывает, что «диада («двойка») как исходная ячейка (модуль) социума не может быть устойчивой, если ее члены придерживаются взаимоисключающих ценностных установок. При возможности свободного и добровольного выбора диада распадается и каждый ищет партнера, близкого прежде всего по духу. Аналогично формируются все добровольные объединения, ассоциации, в том числе и партии. «Однопартийность» именно потому диффузна, что вынуждено включает (выбора нет) людей с разными, даже противоположными, ценностями, например верующих и атеистов, пацифистов и милитаристов и пр. Насаждение «единомыслия» порождает лицемерие, цинизм, разрыв между словом и делом – на одной стороне; ханжество, конформизм и демагогию – на другой. Плюрализм ценностей не ведет к деструкции лишь там и тогда, где и когда имеются общие скрепы высших ценностей и идеалов, благодаря которым обеспечивается не просто многообразие «любой ценой», а именно единство многообразия. Общие ценности, по словам Т. Парсонса, задают «мотивации соблюдения надлежащих уровней лояльности по отношению к коллективным интересам и потребностям»[166].
В-четвертых, противопоставление ценностей идеологией неоправданно – ни исторически, ни логически. Религия как исторически первая форма ценностного общественного сознания являлась одновременно и первой идеологией. Дело не в том, стремились ли конкретные иерархи и проповедники к идеологической деятельности, важнее другое – то, что они могли, опираясь и отстаивая общие ценности, оказывать идеологическое влияние на общество и государство. Так, митрополит Илларион в первом идеолого-политическом трактате Киевской Руси «Слово о законе и благодати» (XI в.) обосновывал суверенитет государства, ссылаясь на добровольное и самостоятельное принятие христианства, доказывал главенство киевского князя перед другими князями для предотвращения междоусобиц; митрополит Клим Смолятич (XII в.) развивал идею независимой Киевской метрополии как основы укрепления государственности; Сергий Радонежский (XIV в.) страстно отстаивал необходимость создания крепкого централизованного государства, обличал «удельщину» с одной целью – освободиться от монгольского ига, развивать свою культуру, традиции, встать в общий строй с другими свободными народами. Такую же «идеологическую работу» задолго до появления термина «идеология» вели все носители религиозных ценностей, хранители культов во всех странах.
«Светские идеологии» формировались двумя путями: во-первых, через ассимилирование религиозных ценностей, их адаптацию к новым условиям и развитие; во-вторых, благодаря попытке поставить свои, как правило, атеистические идеи на место религиозных (якобинцы во Франции, большевики в России и др.). Следовательно, проблема не в идеологии как феномене и понятии, а в ее восприимчивости (или невосприимчивости) к глубинным ценностным идеям конкретного сообщества, в том числе и на уровне архетипов. Согласно Юнгу, архетипы как самые общие и универсальные образы коллективного бессознательного являются носителями («слепками», «отпечатками», «осадками») ценностей предыдущих поколений. Коллективное бессознательное «есть то общее, что не только объединяет индивидуумы друг с другом в народ, но и связывает нас протянутыми назад нитями с людьми давно прошедших времен и с их психологией»[167]. По словам А. Н. Кольева, «архетип – это модель, которая определяет строй мыслей»[168]. Следовало бы, правда, добавить: благодаря ценностным «слепкам» с сознания предыдущих поколений. Если выбрать, например, только по одной из высших ценностей разных народов, то нетрудно понять, где их исторические корни и почему именно эти ценности наряду с другими считаются и сегодня жизненно важными, несмотря на изменившиеся условия жизни и т. д. Так, для американца – это личный успех (образ Selfmade-man’a – человека, сделавшего себя); для англичанина – мой дом, моя крепость; японца – коллективизм традиционной формы; немца – порядок; китайца – уважение к старшим; белоруса – толерантность; россиянина – «равенство различий» (М. Гефтер) и т. д. Но если такие ценности присутствуют в сознании – индивидуальном, коллективном, общественном, то должна быть и идеология как система их презентаций, защиты, продвижения и т. п. Никто, собственно, и не сомневается, что в США, Германии, Японии и других станах есть хорошо отлаженная и эффективно работающая идеологическая машина. (Многочисленные квазиидеологии, против которых боролись авторы концепции «деидеологизации» (Д. Белл и др.), отличает как раз равнодушие к подлинным ценностям своей культуры и общечеловеческим; если они и используются, то лишь в превращенной форме: для маскировки и манипуляции.)
В Беларуси, как и в других странах СНГ, ситуация иная: процесс «переоценки ценностей», начатый еще в период перестройки, пока не завершен, чем и объясняется то, что ни одна из стран не имеет собственной государственной идеологии. Переходные периоды вообще отличаются неустойчивым, текучим ценностным сознанием и, соответственно, вариативностью массового поведения с преобладанием поисково-ориентировочных компонентов, направленных больше на адаптацию к ситуации, чем на адаптирование условий «под себя», или на то, чтобы «заставить будущее свершиться» (П. Дракер). Из всех векторов необходимой в этот период трансформации – структурной, организационной, институциональной и др. – наиболее сложным является именно ценностный вектор, поскольку возможности прямого управленческого воздействия здесь крайне ограничены. Фактически субъект управления, используя социальные и экономические программы, должен отслеживать конструктивность обратной связи, синергетические эффекты соучастия, соорганизации, сотрудничества как показатели изменения ценностностного сознания.
Что касается гносеологической стороны, то отметим наличие заметных расхождений как в обозначении (названии), так и в интерпретации ряда ценностных диспозиций и принципов. Так, наряду с понятием «отнесение к ценности» (:ertbeziehung) используются выражения «ценностная уместность» или «ценностная релевантность» (англ. value relevance); «свобода от оценок» обозначается и как «ценностная свобода» (value freedman), и как «ценностная нейтральность» (value neutrality) – при этом оба выражения могут объединяться как конъюнктивно (через «и»), так и дизъюнктивно (через «или»[169]). Сказываются, безусловно, трудности языковой адаптации исходных немецких терминов, на что обратил внимание Р. Арон, заявив, что «анализ ценности (:ertanalyse) по-французски – несколько странное выражение»[170]. Но и по-русски такой буквальный перевод требует пояснений, ибо «анализ ценности» не означает, что речь идет о постижении содержания той или иной ценности, а об использовании ценностных категорий для исследования самой социальной реальности, прежде всего поведения людей, что можно назвать «ценностным анализом» в отличие от системного, структурного, функционального, компаративного и других видов анализа. «Свобода от ценностей» – это этимологическая калька термина «:ertfreiheit», но, как отметил Ю. В. Давыдов, «буквальный перевод не сов падает с понятийным», т. е. означающим «свободу от оценок».
«Свобода от ценностей» как абстрактная формула или политический лозунг есть фикция. В реальной жизни – это был бы «ценностный вакуум», который так же мало пригоден для человеческого существования, как информационная изоляция или отсутствие кислорода. С точки зрения логики полное отсутствие ценностей лишало бы человека способности познания социокультурной реальности, т. е. выделения «значимого» и «должного» в явлениях действительности. В сфере смыслов человек должен, освобождаясь от одних ценностей и идеалов, искать им замену – и чем длительнее поиск, тем больше вероятность фрустраций, аномалий и т. п.