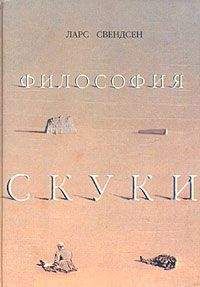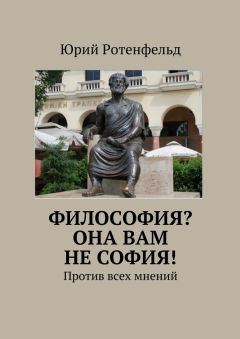Георг Зиммель - Избранное. Проблемы социологии
Находясь под такой угрозой, он должен утратить либо веру в собственный разум (не только в смысле критериев научной доказуемости), либо веру в великих людей прошлого. Но один пункт остается во всей своей фактичности: несомненность религиозной потребности или, говоря осторожнее, той потребности, которая доныне удовлетворялась религией. Просвещение страдало бы слепотой, если бы мнило себя способным парой веков критики религии разрушить то чаяние, которое владело человечеством от примитивнейших дикарей до высочайших культур. Тем самым на первый план выходит вся проблематичность положения, в котором находится сегодня огромная часть культурного человечества. Новыми и новыми силами оно теснит эти потребности, объявляет чистой фантастикой предлагавшиеся и предлагаемые их удовлетворения, но поэтому обнаруживает себя в пустоте. Ранее на место религии приходила религия, подобно тому как дерево приносит новые и новые плоды. Неслыханная ранее серьезность нынешней ситуации заключается в том, что под ударом находится не тот или иной догмат – принципиально объявляется иллюзорным само трансцендентное содержание веры. Сохраняется уже не форма трансценденции, ищущая нового воплощения, но нечто более глубокое и вместе с тем беспомощное: потребность, которая душевно обладает такой действительностью, что утолить ее способно только трансцендентное. Но из-за исчезновения содержания веры она сделалась ущербной, как бы оторвалась от путей своей собственной жизни.
Иного пути, кроме радикального внутреннего преображения, здесь нет, а потому нам следует для начала со всею ясностью разглядеть это положение. Поворот был обозначен Кантом: религия есть внутреннее движение души, в противоположность расплывчатым представлениям о ней как о каком-то посреднике, в котором это внутреннее бытие, деяние или чувство смешивается с выходящим за его пределы. Между душой и трансцендентным может иметься какое-то отношение, но религия представляет собой ту его часть, которая разыгрывается со стороны души. Бог столь же мало может переселиться в наше сердце, сколь вещи, по выражению Канта, могут «переселиться в нашу способность представления». Даже если метафизикой и мистикой предполагается такое единение и такое слияние души с Богом, там, где религия должна обладать отчетливым и умозрительно установленным смыслом, она выступает как бытие или событие в душе, как определенный нам удел. Подобно тому как эротическая натура, стремясь к индивидуальной любви, уже такова до всякого единичного проявления, так и религиозная натура обладает своей изначальной определенностью. Она с самого начала иначе чувствует и формирует жизнь, чем натура иррелигиозная; так бы она делала даже на далеком острове, куда не дошло ни слова, ни понятия о божестве.
Несколько упрощая суть дела, я рассмотрю сначала только эту «религиозную натуру» в самом полном и главном ее смысле. Она не просто имеет религию в качестве некоего владения или способности. Самое ее бытие религиозно, она, так сказать, религиозно функционирует, подобно тому, как наше тело функционирует органически. Последние определения ее бытия по своему содержанию не являются просто догматами, имеющими то один, то другой облик. Это прирожденные ее душе свойства: чувство зависимости и радостная надежда, смирение и стремление, равнодушие к земному и праведность жизни. Все эти черты еще не являются самым религиозным в религиозном человеке. Они проистекают из его бытия как некие его имения, подобно тому, как артистический человек имеет фантазию и техническую сноровку, острую чувствительность и способность к стилизации. Но за ними лежит субстанция его бытия, которая только и делает его художником, выступая как далее неразложимое единство. В приводимых по этому поводу описаниях религиозного человека, как мне кажется, всегда обращается внимание на комбинации и взаимодействия с «всеобщими» энергиями: чувством, мышлением, нравственной или желающей волей. В действительности, однако, религиозность есть фундаментальное бытие религиозной души, и именно оно задает окраску и функцию всех общих и частных душевных качеств. Только задним числом – не во временном значении этого слова – это религиозное бытие переходит в потребность и в свое свершение, равно как бытие художника проявляется в корреляции со стремлением к творчеству и к объективному претворению.
С помощью такого разделения потребности и свершения религиозность, как природное свойство религиозного человека, противопоставляется объективности религиозного предмета. Когда личность переходит из вневременного религиозного бытия на психологическую стадию потребности, стремления, желания, она требует свершения в действительности. Здесь находят свое место все те душевные движения, которые считаются созидателями богов: страх и нужда, любовь и зависимость, стремление к благополучию на земле и к вечному спасению. Но весь вопрос об истоках может возникнуть только после того, как внутренняя религиозность выступит в дифференцированных формах потребности и исполнения, устремившись тем самым к реальности противостоящего ей Бога веры. Только после этого может возникнуть вопрос об истинном и ложном в религии, который явно бессмыслен, пока под религией понимается фундаментальная организация человека. Истинной или ложной может быть лишь вера в реальность, выходящую за пределы верующего, но не самое его бытие. Научный элемент исповедания (я верю в Бога) ощутим то слишком сильно, то слишком слабо. Но это показывает только то, что все противостояние верующего субъекта и объекта веры представляет собой вторичное подразделение. Оно почти не затрагивает более глубокого, самодостоверного, хотя и чуждого познанию бытия.
Данные наощупь мистические имена – Бог как «чистое ничто» (в противоположность всякому отдельному нечто) или «сверхсущее» – направлены лишь на то, чтобы отвести от Бога все вопросы о его действительности. Вопрос не затрагивает как раз того слоя, в котором лежат корни религии или где пребывает сама религия как последний корень сущего. Человек является нуждающимся существом, а потому уже первый шаг выводит его к желанию обладать, а как субъект он выходит к объективности. Поэтому религиозный жизненный процесс, будучи глубочайшей определенностью бытия индивида, ведет его к отношению между верующим и для-себя-сущим предметом веры, между желанием и исполнением. Так эта форма реальности захватывает религиозность: молитва, магия, ритуал делаются средствами, наделенными фактической действенностью. Как только человек как субъект противопоставляется объективной действительности Бога, весь «вопрос об истинности» разворачивается в борьбу о правильности и иллюзорности. Переместившись на этот уровень, религиозное бытие раскалывается.
Итогом этого перемещения, которое, по историческим свидетельствам, было неизбежным, оказывается возникновение Просвещения. Оно делает отсюда вывод: либо в «реальности», помимо человека, есть метафизическое, трансцендентное, божественное; либо если дух научности не позволяет говорить о такой реальности, то и вера в нее является субъективной фантастикой, каковую следует объяснять чисто психологически. Эта альтернатива ложна, если метафизическое в ней противопоставляется психологически недостоверному. Тогда остается третье – сама вера, сам этот душевный факт есть нечто метафизическое! В вере живет и выражает себя некое бытие, религиозное бытие, смысл и значимость которого совершенно независимы от содержания, вкладываемого в него верой. Когда человек противопоставляет себе метафизически-божественный образ, превосходящий все эмпирические частности, то тем самым он далеко не всегда проецирует на него свои психологические эмоции: страх и надежду, душевный подъем и потребность спасения. Он проецирует также то, что в нем самом является метафизическим, то, что в нем самом лежит по ту сторону всего эмпирического. Подобно тому, как в игре несводимых элементов мира мы видим начальный пункт мира и протекающих в нем процессов, так и вся психологическая изменчивость, производящая отдельные религиозные образы, опирается на предшествующее ей бытие души. Возникновений этого психологического ряда – и то, что он вообще возникает – предполагает основание, которое не могло возникнуть в самом этом ряду. Ход размышлений Фейербаха отклонился недалеко перед этим пунктом. Бог для него есть не что иное, как понуждаемый своими потребностями человек, который возводит себя поэтому до бесконечности и ищет у так возникшего Бога помощи. «Религия есть антропология». Этим он думает избавиться от трансцендентного, видя в человеке только эмпирический поток душевных частностей. Но Фейербах должен был бы прийти к другому выводу: метафизическая ценность, сверх-единичное пребывает в самом религиозном бытии человека. Конечно, обожествление человека следует отвергнуть так же, как очеловечение Бога. В обоих этих случаях задним числом осуществляется насильственное сближение инстанций, которые уже по своему уровню неизбежно должны противостоять друг другу. Но за их дуализмом с самого начала подразумевается свободное от субъект-объектной противоположности отношение: вместе с верой одновременно возникает ее предмет, но его религиозный смысл, как абсолютное, воспринимается как стоящий по ту сторону такого отношения. Из нашего представления пространства чуть ли не сразу следует вывод: следовательно, за пределами сознания есть реальный пространственный мир; или, скорее, если прав Кант, само это представление уже является пространственной реальностью. Точно так же субъективная религиозность не гарантирует наличия метафизического бытия или ценности вне ее самой, но сама она непосредственно и как таковая, в своей двойственности уже указывает на сверхмирское, на глубинное, на абсолютность и святость, которые кажутся утерянными в религиозных предметах.