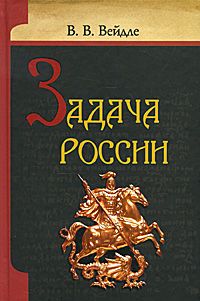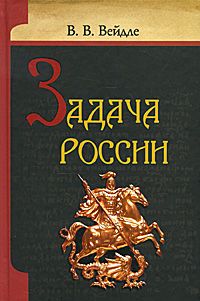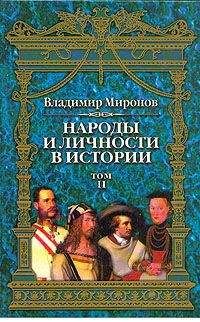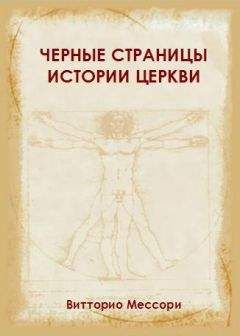Владимир Вейдле - Задача России
На белом фоне разноцветными тонкими штрихами небрежно намечены в потолке концентрические круги и звездой расходящиеся от них трапеции или прямоугольники на стенах, и бойкой кистью вписаны в них фигурки, узоры, бегло намеченные пейзажи, деревенские идиллии, голуби, гирлянды, овечки, пастушки… Как все это беспечально и светло! Никаких тут нет скелетов, черепов, ни могильной тьмы, ни надгробных рыданий; не только ничего напоминающего смерть, но и ничего священнодейственного, ничего торжественного. Декорация, подумаете вы, разве что пригодная для спальни, или лучше еще — для детской. Вам укажут, правда, во многих местах библейские сюжеты, но еще нигде не приходилось вам встречать такой странной их трактовки, несерьезной; покажется вам даже — шуточной. Что же это за пророк Иона, которого изрыгает на берег его кит, веселенький дракончик с хвостом-завитушкой, применяемый порой и просто для украшения? Что же это за пророк, который дремлет потом, закинув руку за голову, под тыквенным своим навесом, в позе Эндимиона, пленившего Луну — Селену — юной своей красой? Или какой же это Ной, патриарх, «обретший благодать пред очами Господа», шестисот лет от роду, когда «потоп водный пришел на землю», этот безбородый паренек, молитвенно поднявший руки и к которому голубь подлетает со своей веточкой? Разве это ковчег, этот ящик или сундук, в котором он стоит? Где же Ноева семья? Где же «скоты», чистые и нечистые? А этот пастушок с ягненком на руках? Вам говорят, что это Добрый Пастырь, Спаситель, но ведь на потолке одной из древнейших усыпальниц, там, где в центре не пророк, а скорее отрок Даниил между двух львов, вы пастушка этого видели изображенным в боковых медальонах два раза. Что ж это: беспечное повторение пасторального мотива или в самом деле два Спасителя?
Недоумений или удивлений — если только не лишены вы дара удивляться — возникнет у вас еще немало и возникло бы гораздо больше, если бы подземная ваша прогулка не была так коротка. Нынче прогулки эти еще короче сделались, чем прежде. Желающих много, водят их быстро, группами человек по десять — пятнадцать, объяснения дают разным группам на различных языках. Но показывают возле Аппиевой дороги небольшие отрезки тех же трех знаменитейших и старейших катакомб — св. Каллиста, Домициллы, св. Севастьяна (под церковью того же имени). Местность, где вырыто было последнее это кладбище, носила странное латино-греческое, не очень грамотное название: ad catacumbas, — как если бы мы сказали «возле близ оврагов» (латинский предлог и греческая приставка значат в данном случае то же самое). Лишь в недавнее сравнительно время слово «катакомбы» стали применять для обозначения всех вообще подземных кладбищ, которых в Риме было много, но которые все находились вне стен города. Хоронить внутри этих стен древнеримский закон строжайше запрещал.
Рыли эти кладбища под землей с середины II до конца IV века. Не все они христианские; есть, например, тут же, близ Аппиевой дороги, еврейское; есть принадлежавшие гностическим, не совсем ясно, какой именно веры, общинам; есть смешанные — частью христианские, частью языческие, как недавно открытое на via Latina. Некоторые предназначались для членов одного лишь семейства. Таково было начало и старейших христианских, разросшихся затем, ушедших вглубь этаж за этажом, как Сан Каллисто, где подземные коридоры растянулись на десять километров, если не больше (не все они еще откопаны). Общая их длина во всех катакомбах достигает, по различным подсчетам, от ста до полутораста километров. Это целый город с населением в пол– или в три четверти миллиона мертвых — подземный Рим! Недаром так и назвал свой труд о нем энтузиаст-открыватель, «Христофор Колумб» этих кладбищ, римский юрист и ходатай по делам Антонио Бозио.
Погребения в них прекратились к концу V века, а затем забросили их. Память о них заглохла, потерян был и доступ к ним, кроме как к небольшому числу подземных могил у церквей св. Севастьяна и св. Агнесы. Воскресло внимание к ним лишь во второй половине XVI века, особенно после того, как 31 мая 1578 года землекопы-рабочие наткнулись в пригородном саду на покрытые росписями подземные галереи, которые позже были вновь засыпаны. Пятнадцать лет спустя Бозио впервые проник в катакомбы и чуть в них не заблудился. С тех пор не прекращал он своих расследований до самой своей смерти в 1629 году. Объемистый труд его опубликован был посмертно и произвел большое впечатление. Нашел он и последователей, но тогда же началась печальная эпопея не столько изучения, сколько бессовестного разграбления катакомб. Похищались саркофаги, надписи; куски штукатурки с росписями выламывались и продавались любителям древностей, в чьи собрания они нередко поступали уже в сильно поврежденном виде. Безобразия эти окончательно пресеклись лишь к середине прошлого века, когда началась деятельность заслуженнейшего в катакомбных делах археолога Джованни Баттиста де Росси. По его инициативе создана была в Ватикане и «Комиссия христианской археологии», которая с той поры ведает этими делами. Ей принадлежит верховное руководство раскопками, производимыми специалистами, которым папский Институт христианской археологии дает необходимую дня этого подготовку. Если вы не удовлетворитесь тем сравнительно немногим, что показывают простым смертным в трех катакомбах из тех, что близ Аппиевой дороги, и в некоторых других, из коих всего больше стоит посещения кладбище Присциллы на via Salaria, то придется вам, подольше оставшись в Риме, записаться в «Общество друзей катакомб», и тогда постепенно ознакомитесь вы со многим, что вам было недоступно, так что, пожалуй, в конце концов и впрямь вообразите вы себя, друзья, римлянами второго Рима, подземного этого города.
Нет, не воображайте: это все-таки город мертвых. Но почему же так не похож этот некрополь на другие? Почему при первом же посещении загадывает он вам загадки, которые не одно наше любопытство, но и что-то другое в нас, поглубже, требует, чтобы мы попытались разгадать? Почему? Потому что это город мертвых, веривших, что смерти нет.
* * *
Об этой вере свидетельствуют найденные здесь в огромном количестве надписи. Но еще вернее и глубже живопись катакомб — не только темами своими, но и особым осмыслением их; не только их выбором, но и толкованием их, и всем вообще своим характером. Живопись эта — единственная в своем роде во всей истории искусства христианской эры; и вместе с тем именно ею история эта и началась, подобно тому как с базилик, построенных в Риме (но и не только в Риме) при императоре Константине, началась история христианского храмостроительства.
Но тут необходимо сделать очень существенную оговорку: этот совсем особенный характер присущ не всей катакомбной живописи, а лишь первоначальной. Он присущ тем ее памятникам, как и тем изображениям на саркофагах и на некоторых изделиях из металла и стекла, которые предшествуют признанию христианства Константином или, возникнув поздней, придерживаются старых образцов. Базиликам соответствовать и их собою украшать будет совсем другая, новая живопись, гораздо более близкая к искусству последующих веков, чем та, что нам предстает в древнейших катакомбных росписях. Росписи эти не старше III века — более ранние датировки оказались неверными; но ведь признание христианства Константином и превращение его в государственную религию как раз и обозначило тот перелом в его истории, который был и переломом в истории христианского искусства.
Первоначальные особенности его долгое время пытались объяснять погребальным, кладбищенским назначением большинства сохранившихся его памятников, но объяснение это не объясняет ни различия между погребальным искусством III и IV веков, ни сходства между погребальным и непогребальным искусством доконстантиновского времени. Остается, однако, незыблемым тот случайный в основе своей факт, что нигде у нас нет столь обильного материала для суждения об особенностях этих, как именно здесь, в подземном Риме.
В чем же эти особенности состоят? Прежде всего в том, что первоначальная катакомбная живопись, первоначальная скульптура саркофагов, как и все известное нам христианское искусство III века, не повествует, не иллюстрирует Священное писание, и вместе с тем не создает священных образов. В следующем веке начнет оно и повествовать, и образы эти создавать; но пока что, хоть и не переставая изображать, оно не ради изображения существует и свою изобразительность сводит к самому необходимому, без чего никак обойтись нельзя. Необходимому для чего? Для того, чтобы зритель понял, о чем идет речь, уловил бы мысль, передаваемую если не чисто условными, то все же очень близкими к условным описательными знаками.
В катакомбах Каллиста и Домициллы, где показали нам некоторые из древнейших росписей, нас уже успели удивить образцы такого минимально изображения. Родственники погребенных там, посещавшие их могилы, когда видели человечка по пояс в ящике и голубя, подлетающего к нему, понимали, что речь идет о Ное, или, вернее, о спасении Ноя, и этого, нужно думать, было им вполне достаточно. Совсем они и не требовали от живописца, чтобы он им рассказал историю Ноя или чтобы он праведного этого старца в согласии с Библией изобразил. Молящийся, воздев руки, как Ной, юноша и два льва по сторонам — этого зрителю достаточно: это пророк Даниил во рву львином. Три молящиеся фигурки и пламя под ними — это три отрока в печи огненной. Столь же немногословно сообщает живописец о Моисее, источающем воду из скалы, о Христе, воскрешающем Лазаря или беседующем с самаритянкой у колодца, причем узнает зритель Христа или Моисея только потому, что по минимальным данным угадывает имеющуюся в виду сцену, а не по какой-нибудь характеристике Моисея или Христа, которую художник вовсе и не дает. Пространнее он излагает лишь рассказ о пророке Ионе, не весь, однако, рассказ, а выдержку из него, разделенную обычно на четыре эпизода: Иону с корабля выбрасывают в море; кит проглатывает его; кит изрыгает его; Иона в позе любезного богине Луны греческого пастушка покоится под своим тыквенным насаждением. Четыре картинки — это удобно для симметричной декорации усыпальниц. Но ничто не мешает и свести их к двум или к одной. Если всего одна и есть, то это всегда последняя: спасенный Иона, спасение Ионы. Да и от нее можно отказаться; тому есть ряд примеров — достаточно одной веточки того насаждения, достаточно одной тыквочки… А если так, то разве не ясно: не в изображении дело, а в мысли, обозначаемой им.