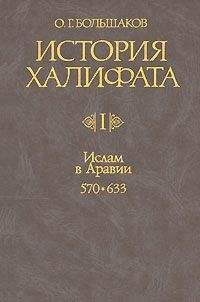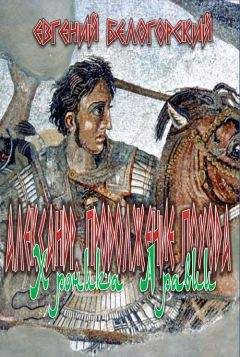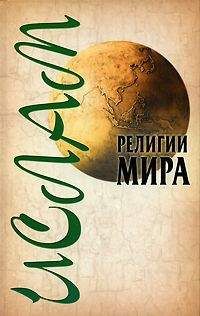Владимир Вейдле - Задача России
Любил ли Андерсен реальных, живых детей — вопрос спорный; писал ли он, думая в глубине души, что пишет именно для них, — это тоже, скорей, сомнительно. Можно утверждать, что не только сказку о тени, ставшей двойником, или о Гадком Утенке, этом символе поэта, но, быть может, и никакую другую из его сказок до конца дети не поймут. Зато несомненно, что Андерсен продолжал бы писать такие же посредственные книги, какие писал в молодости, если бы тридцати лет от роду не понял, что ему надо учиться у детей: учиться их языку, их восприятию сказки, учиться поэзии не сознаваемой, но творимой ими, и беспрепятственному преодолению действительности, вполне доступному только им. Он учится у них не для того, чтобы приспособить к их пониманию свою поэзию, свое искусство, а для того, чтобы вырвать у них тайну их собственной поэзии, единственно требуемой творческим его духом, но неосуществимой без их участия. Он вслушивается в их слова, не чересчур подчиненные рассудочной последовательности; он старается понять законы или, вернее, беззаконность их воображения; он восхищается столь естественной для них легкостью скачка их царства необходимости в другое, безграничное, беззаботное царство вымысла. В прелестной сказке «Уличный фонарь», где небесный свет, занесенный в фонарь звездой, не может проявиться вовне за отсутствием сальной свечи, он выразил муку творческого человека, не находящего пути к осуществлению своего творчества. Сам он этот путь нашел: фонарной свечкой для него послужили дети и детство.
Всю жизнь Андерсен промечтал над тем, как враждует жизнь с мечтою, как действительность и вымысел делят между собою мир. Ученик детей младенцем не стал; он стал поэтом. Тонкая трещинка никогда не закрылась для него между бессмертным миром поэзии и человеческим миром жизней и смертей. Об этой трещинке только и говорят все самые глубокие его сказки; все, чему он научился, все его искусство – только нежная и плотная ткань, скрывающая ее от собственного его зрения. То поэзия, даже искупив себя страданием, не может стать жизнью, как в «Русалке»; то, как в «Гадком Утенке», она сама не знает о себе; то превращается в корыстную выдумку о голом короле или в свою противоположность, самодовольную ложь двойника, выросшего из тени. Андерсен никогда не идилличен и очень редко предается беспечной радости повествования. Его сказки подернуты едва заметной дымкой печали, мудрости, иронии; во всех присутствует поэт, поэт, уже познавший себя, как Гадкий Утенок в конце сказки, но которому тем мучительней в этом мире – как его Русалочке – каждый шаг.
Это не младенческое простодушие Жюля Верна, не полуслучайное наитие Льюиса Кэрролла. Если не умом, то инстинктом Андерсен знал, чего хотел. Соприкосновение с вечно детским было решающим опытом его жизни, но, окунувшись в эту стихию, он в ней не утонул, и как раз потому его пример особенно поучителен. Путь его был одинок в литературе минувшего века; зато в наш век многие начинают идти по этому пути. Литература, да и сама жизнь никогда еще не были так далеки от всякой непосредственности и природности; но чем старше становится человек, тем чаще вспоминает он о своем детстве, и чем дальше уходит литература от своих истоков, тем больше растет потребность к этим истокам ее вернуть. Это не значит, что к ней нужно приставить няньку и что ее хотят запереть в детскую, это значит только, что ее склоняют хоть немного подышать тем воздухом, которым она — как и мы все — дышала в детстве. Вот почему все чаще повсюду в Европе в литературные герои избираются дети, или по крайней мере — как в романе Розамонды Леман, который потому ей так исключительно и удался, потому так быстро и прославился, — совсем юные, не сложившиеся, не отвердевшие существа с не предрешенною еще судьбою, способные выбирать, способные меняться, способные пересоздать самих себя. Только с ними, избегая житейского, можно все-таки творить живое, только с их помощью достижимо то редчайшее в современном романе, что называется всем известным, но плохо понимаемым словом приключение .
Приключение возможно лишь в тех же условиях, в каких возможен вымысел, т. е. лишь там, где есть непредвиденность, выбор и свобода. Детерминизм (все равно психологический, социальный или бытовой), давно уже проникнувший в самую глубь современной литературы, не допускает идеи приключения. Менее всего допускает ее так называемый «авантюрный» (т. е. чаще всего уголовный) роман, построенный, как ребус или как задача на приведение к логарифмическому виду. Но и знаменитое предписание Чехова насчет того, чтобы «все ружья стреляли», слишком стесняет свободу замысла и приключению грозит войной. У Шекспира и Сервантеса, у Гоголя и Толстого вовсе не все ружья стреляют; подлинное приключение, где бы оно ни возникало, во внешнем ли мире или в душевной глубине, никак не может логически вытекать ни из предшествующих событий, ни из характера действующего лица, с которым оно случается. Если оно и вызвано какой-то необходимостью, то, по крайней мере, при возникновении своем оно должно казаться нечаянным и свободным. В поисках этой свободы и обращаются писатели все чаще к миру детей и, значит, к памяти и опыту собственного детства. Не надо думать, что это приводит их к банальному умилению и благонамеренной слащавости. О детях написал свою лучшую, неожиданно глубокую книгу Кокто («Les Enfants terribles»); о детях почти исключительно пишет один из одареннейших английских писателей младшего поколения, Ричард Хыоз, и «The High Wind of Jamaica» — книга, полная отравы, книга отнюдь не для детей, но книга, автор которой — поэт, именно потому, что умеет смотреть на мир глазами детства. В детстве или, лучше сказать, в отрочестве могут быть безумие и горечь, это очень хорошо видят и Кокто и Хьюз, но оба как бы страшатся за своих героев предстоящей им трезвой и тусклой взрослости. То же самое можно сказать и о лучшем, что дала литература этого направления в новом веке, о «Le Grand Meaulnes» Алена Фурнье, книге, вышедшей незадолго до войны, написанной совсем молодым и уже в 1914 году убитым автором, удивительной книге, где кажутся пленительными даже недостатки, даже какая-то особая предрассветная бледность языка, где два деревенских школьника живут в самом обыденном и все же волшебном мире, игрой и мечтой определяют всю свою дальнейшую жизнь, исполняют взрослыми людьми свои ребяческие клятвы и всей судьбой, всей кровью отвечает за то, чему они поверили детьми.
Раз прочитав роман Фурнье, его хранишь в душе как память о том, чего не было и что все-таки было, о раннем утре, прожитом на нашей, все на той же, и уже не той, земле, не принаряженной для праздника, но преображенной незаметно и вдруг восставшей перед нами во всей своей забытой чистоте. Честертон сказал, что если хочешь вкусить хоть малую радость, надо узнать сперва неуверенность, боязнь, надо испытать «мальчишеское ожидание». От этих чувств современная литература нас почти что отучила. Большинство тех книг, что пишутся вокруг нас, подменяют живой опыт лабораторным экспериментом и человеческую свободу механическим предвидением. Их авторы — отличные гармонизаторы и контрапунктисты; они забывают одно: никакой математикой не расчленимую мелодию. А между тем ради нее, ради того, чтобы о ней вспомнить и ее вернуть, и вместе с ней — неразрывно с ней связанный утраченный волшебный мир, можно пожертвовать очень многим. Ради нее, ради чуда, осуществляемого ею, уже вернулся Фурнье и возвращаются многие вслед за ним к вымыслу, к свободе, к детству; или, вернее, через возвращение к детству стараются вернуть свободу вымысла. И, следуя их примеру, должно быть, многие еще откажутся от ненужных преимуществ и обременительных богатств, от всевозможных умений и совершенств, только бы услышать еще раз забытый и простой напев, только бы выйти снова на желанный путь и постучаться в дверь потерянного рая.
3
Подобно памяти о детстве человека, есть память о детстве человечества. Подобно общению с детьми, возможно общение с людьми, оставшимися верными земле, не оторвавшимися от завещанного веками жизненного уклада. Чем дальше уходит культура от органической современности человека и природы, от конкретной природной самого человеческого существа, чем скорей превращается она в научно-техническую цивилизацию, тем сильнее становится желание вернуться к раннему возрасту ее, воссоединить разъединенное, вернуть исконную цельность распавшемуся по частям, восстановить расторгнутый союз с небом и землею. Чем сознательней и целесообразней, а значит, внутренне бедней становится человеческое творчество, тем больше оно тоскует по старому простору, вещей драме и жизненной полноте. Перед угрозой механизации нередко творческий человек если одичания не хочет, то все же – опрощения.
Слово это весьма прочно связано для нас с народничеством конца минувшего столетия и особенно с проповедью Толстого. Можно, однако, придать ему более широкий смысл. Тягой к опрощению можно назвать все то стремление из города в деревню, от цивилизации к природе, от аналитической сложности современной жизни к первобытной нерасчленности и подлинной или мнимой простоте, которое то громче, то заглушенней проявляется в европейской культуре от Руссо и немецких романтиков до наших дней и в обновленной форме распространилось вновь за последние годы, до конца обнажив при этом истинный свой смысл. Опрощение в русском понимании его, как и все русское народничество, корнями своими уходит в эту общеевропейскую традицию, да и оставалось с нею связано до конца в самых представлениях, свойственных ему о народе, и о приближении к народу. Оно получило, однако, особую моральнополитическую окраску, которая на Западе во всякое время была слабее и которой оно вовсе лишено теперь. Характерно, что в России, стране крестьянской, помещичьей, в очень малой мере промышленной и городской, явление это носило характер нарочито принципиальный, тогда как на Западе чем Дальше, тем больше оно получало черты явления стихийного. В первом случае, к тому же, ударение ставилось на понятии «простого народа» (в противоположность образованным и зажиточным сословиям), тогда как во втором оно падало на понятие народа деревенского и вообще деревенской жизни в противоположность жизни городской. Правда, у Толстого, да и у народников иногда, эти две точки зрения не слишком различались: в толстовском опрощении были явные элементы «бегства из города», «возвращения к земле», менее осознанные, чем нравоучительная проповедь лаптей и рубахи, как раз по причине не принципиального, а стихийного их характера. Но с настоящей и сознательной силой такого рода противогородские и землепоклоннические стремления проявлялись у нас уже после революции, у Есенина, у Леонова (особенно в его «Воре»), пока их не придушила советская власть при переходе к решительной индустриализации деревни.