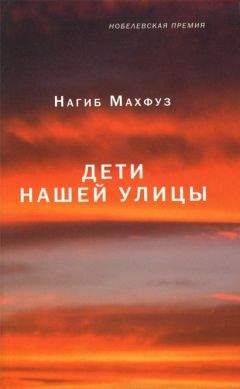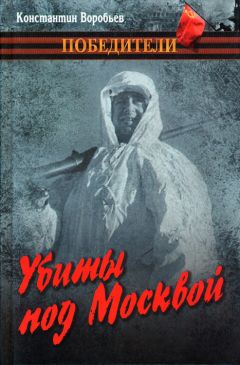Лев Ленчик - Четвертый крик
«Преданность консервативному иудаизму внушила ему ненависть к первым христианам… В молодые годы он участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями, в арестах христиан в Иерусалиме. Намереваясь начать широкое преследование христиан, он направляется в Дамаск. Однако на пути… он испытал чудесное явление света с неба, от которого пал на землю и потерял зрение; голос укорил его („Савл, Савл! Что ты гонишь меня?“) и велел слушаться тех, кто скажет ему в Дамаске, что делать. „Видение в Дамаске“ стало поворотным событием в жизни Павла. Исцелившись от слепоты по молитве христианина Анании (по другим источникам, Ханания — Л. Л.), Павел принимает крещение и начинает проповедь христианства…».
В Деяниях Апостолов есть отрывок (9, 1–2), в котором говорится, что конкретно собирался он делать в Дамаске с последователями Иисуса: «любого, и мужчин, и женщин, последующих этому учению, связав, привести в Иерусалим», — причем разрешение на это он предварительно «выпросил» у первосвященника (у иудейского, разумеется, — иных тогда еще не было).
Как ни привыкаешь к особому дару религиозных корифеев творить и испытывать на себе чудеса, такой резкий переход из состояния воинствующего гонителя сектантов в столь же воинствующего их глашатая от одного только голоса усопшего Иисуса, причем явно, надо полагать, ненавистного ему, кажется сверхчудом — чудом чудес. Даймонт подозревает в нем «очередную галлюцинацию». Мне же, грешному, и это объяснение не кажется убедительным, ибо для галлюцинации и немедленного, вслед за ней, разворота все здесь как-то до чертиков прямолинейно, все как-то на одной семантической оси: был «против» — услышал устыдивший его голос врага — стал «за».
Тайну этого превращения можно было бы оставить неразгаданной, поскольку дело не в ней, а в том, что за ней последовало. Но все мы не дети, и прекрасно понимаем, как такие «чудеса» обычно происходят в жизни. Думается мне, что этот мифологизированный отрезок биографии Павла чрезмерно ужат во времени, благо миф как художественная структура это позволяет. На самом деле, все происходило несравнимо медленнее и будничнее.
Годы катят, а человек, жаждущий славы и успеха, несмотря на петушинность нрава, прозябает в совершенной безвестности. Не порядок. Надо рвануть крылом как-то по-иному. Чего-нибудь скандального тоже не мешает, совсем наоборот — скандальное-то и может помочь. Короче, что-то в этом роде с ним явно происходило. Если нет, то остается предположить, что учение гонимых от частого и близкого контакта с ними, по правде, полонило эту буйную революционную головушку. Ведь если температурный накал души родственен (адекватен, тождественен), то различие в содержании не столь уж и существенно. Сговориться можно. Примеров таких скандальных альянсов с недавними врагами немало. У нас на Руси, к примеру, истовые ленинцы, успешно гнавшие националистов и религиозников на Соловки, сами стали ныне и православными, и националистами.
Ах, ах, эти вездесущие ветры перемен!
В случае с Павлом полагаю, однако, что дело было не в ветрах, а, главным образом, во всепожирающем тщеславии. По каким-то причинам в официальные еврейские верхи нам пролезть не удалось, вождем стать не подфартило. Вот и решили мы испробовать удачи на ниве, размером поменьше. «Несмотря на свою встречу с Иисусом (ясно, что телепатическую — Л. Л.), исцеление от слепоты и обращение, Павел еще в течение четырнадцати лет, — пишет Даймонт, — прозябал в безвестности… Он дважды обращался к апостольской церкви в Иерусалиме с просьбой возвести его в ранг апостола. Дважды ему было в этой чести отказано».
Не забудем, что «апостольская церковь в Иерусалиме» в это время еще сплошь еврейская. Дважды оскорбленный отказом на высший чин, он затевает ожесточенный спор с Иаковом, братом Иисуса, добиваясь согласия на отмену для язычников предварительного обращения в иудаизм. Но и здесь терпит поражение. И тогда уж, вконец оскорбленный, униженный и отчаявшийся решается один идти ва-банк. Долой евреев! Сделаем ставку на языческие народы исключительно!
«Поскольку евреи в массе своей, — пишет Даймонт, — не приняли христианство, Павел обратил взор к язычникам. Чтобы облегчить им вступление в новую секту, он отбросил еврейские законы о разрешенной и запрещенной пище, а также обряд обрезания (надо сказать, что отмена обрезания шла в угоду и римским властям, которые в целях наказания евреев за их непокорность то и дело его запрещали — Л. Л.). Наконец, он решил поставить Христа на место Торы. Это было самым главным его нововведением. Оно привело к окончательному и непоправимому разрыву между религиями Отца и Сына. Тогда, как и сейчас, евреи верили, что человек может познать Бога только через Его Слово, каким оно явлено в Торе. Доктрина Павла гласила, напротив, что человек может познать Бога только через Христа. Противоположность между еврейством и христианством стала абсолютной».
Как видим, все обосновано вполне жизненно. Во имя достижения столь головокружительного успеха ничего уже не стоило сочинить мифы о вине евреев за казнь Иисуса, о Его чудесном воскресении, назвать его Мессией, или теперь уже, по-настоящему, Христом, а все движение — христианством. Позднее появится миф о том, что отец Иисуса вовсе не еврей, а римский легионер, хотя непонятно зачем это нужно было, если зачатие все равно было от ангела, т. е. непорочным. Не нужно было, но все же подальше от евреев. Ну и, конечно, самый главный миф, ставший краеугольным камнем христианства, — это знаменитое триединство Бога, Сына и Святого Духа в их нераздельности и неслиянности в одном лице — в личности Иисуса Христа. Какой диалектический пассаж!
Бог-отец и Бог-сын
Однако ирония иронией, а замена Слова Торы Христом гораздо мудрее и практичнее, чем кажется на первый взгляд. Я уже упоминал об обряде жертвоприношения как тактической уступке Моисея психологии простолюдина. Простому человеку очень трудно верить в Бога бестелесного, беспредметного, невидимого, само имя которого и то под запретом; в Бога, обозначенного лишь Словом Договора — некоторой сознательной сделки, за выполнение которой «почитаемый и страшный» г-н Всевышний обещает всяческие блага и всемерное покровительство, а за нарушение — всевозможные жесточайшие кары: ужасные болезни, неурожаи, повальный голод, поражения в войнах, рассеяние среди другие народов, рабство и истребление с лица земли. «Как радовался Господь вам, — говорил Моисей народу, — творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас» (Курсив мой — Л. Л., Второзаконие, 28–29, 63).
Такая концепция Бога рассчитана на апелляцию, в первую очередь, к разуму, к рассудку и в значительно меньшей мере — к чувству, если не считать страха, на котором, собственно, все и построено. Народ, принявший этот своеобразный Договор с Богом, — избранный народ. И именно ему, избранному, предлагается жесткая альтернатива: жизнь или смерть (там же, 30–31, 19), — спущенная с небесных высот в форме строгого юридического циркуляра, который вполне логично получил название Закона.
Несмотря на столь активную роль страха в Моисеевом Законе, объективности ради подчеркну, что этот устрашающий атрибут веры присущ, в большей или меньшей мере, всем религиям мира. Такие уж мы, человеки, замечательные подобья Божьи, что без дисциплинарного окрика и угрозы наказания никак пока обходиться не можем. Что касается самого Закона, то, безусловно, в нем виден определенный прообраз будущих светских конституций. Вместе с тем, чувственная, сакраментально-вещественная суть веры заметно ослаблена в нем.
Форма Закона (Договора) приглушает в вере ее иррациональный непосредственный посыл. Поэтому столь значительна в иудаизме роль обрядовой предметности: твилин, талес, мезуза и другие вещи. В этом же ряду обретается и обряд жертвоприношения — священные, даруемые Богу животные. Все это — средства материализации Всевышнего, удостоверение Его бытия в личном непосредственном контакте, единственная возможность осязать Того, кто строго-настрого запретил видеть себя и подходить к себе.
Вспомним, как в Торе настоятельно повторяются угрозы не подходить к Богу. Сообщив Моисею, что в такой-то час Он явится «в густом облаке» на горе Синай, Он тут же предупреждает: «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к краю ее; всякий, кто прикоснется к горе, должен умереть». А потом, уже придя, допускает лишь Моисея и Аарона, «а священники и народ да не порываются восходить к Господу, а то разгромит Он их» (Исход, или, в более точном переводе с иврита, Имена, 18–20, 13, 24).
Спору нет, на социально-философском уровне, представление о Высшей силе, находящейся в сфере, недоступной и запретной для людей, отражает глубинные аспекты морали и нашей житейской психологии. Образ Бога-Слова, Бога-Идеи, будучи более адекватным признакам безграничности и причинности мироустройства, дает больший простор и гносеологическим свойствам интеллекта. В связи со второй заповедью, запрещавшей «изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде, ниже земли», Фрейд писал: «Коль скоро принимается подобный запрет, он должен оказать глубочайшее влияние. Он означает подчинение чувственных восприятий абстрактной идее. Он означает триумф чистой духовности над чувственностью».