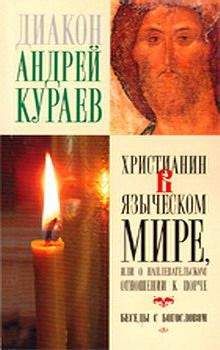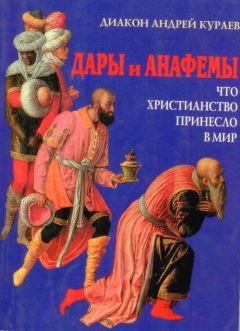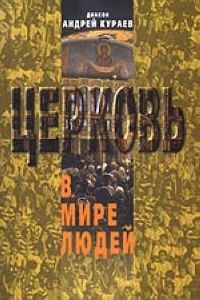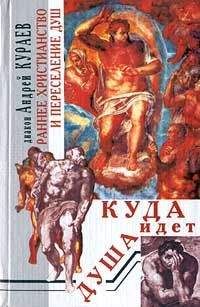Андрей Кураев - Христианин в языческом мире или о наплевательском отношении к порче
Когда модернизация оказывается более навязчивой и тотальной, чем традиция, то юношеский «протестантизм» начинает бунтовать против бунта. Все больше думающих молодых людей оскорбляются лозунгом, в котором за них сделали их выбор — мол, «Новое поколение выбирает пепси-колу».
Для подростка естественно быть протестантом. Для него естественно выбирать свой путь через отличение себя от веры и образа жизни отцов. Но сегодня те «отцы», что определяют стиль жизни и систему ценностей постсоветского общества — это люди, твердящие «реформы» и «модернизация». Естественно, что появляются студенты, в порядке протеста против традиции реформ уходящие на поиски традиционализма. И опять же именно православие с его «косностью», точнее — устойчивостью, негибкостью — оказывается для них более понятным: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир: пусть лучше мир прогнется под нас!».
И вот уже оказывается, что именно молодежь склонна поддерживать архаичный язык нашего богослужения. «34,6% опрошенных москвичей считают, что было бы лучше, если бы богослужение велось на современном русском языке, 27,7% — против такого нововведения. Причем оказалось, что приверженцев существующей ныне формы богослужения больше среди молодежи и интеллигенции, а малограмотные и пожилые люди высказываются за службу на понятном языке» [30].
Если же учесть, что опыт всевозможных реформ был слишком сокрушительным для России в ХХ веке, то становится понятной миссионерская нужда в церковном консерватизме. Для душевного здоровья народа, уставшего от затянувшихся перемен, необходимо, чтобы в общественной жизни была бы сфера, в которой все стабильно, неизменно. Нужен такой «заповедник», в который можно войти без страха встретиться с чем-то радикально новым. Человек должен уметь быть разным. И чем более захватывающ ветер перемен в социально-культурной жизни, тем важнее уметь перейти на иную скорость в другой сфере человеческого бытия. Обществу нужны зоны «застоя» — при условии, что оно все не является такой сплошной зоной.
Своей косностью Церковь дает возможность людям модернистской эпохи реализовать то право, которое не записано в «Декларации прав человека», но которое очень кстати провозгласила Марина Цветаева: «У меня есть право не быть собственным современником!» [31]. Человек входит в храм — и одна из тех радостей, что он может в нем встретить, состоит в осознании того, что он входит в мир, который создали его предки. Он радуется, что слышит и произносит те же слова, что и люди далеких столетий. Для сироты из модернистской цивилизации одно из самых радостных слов — «Боже отцов наших!» [32].
И было бы немилосердно и миссионерски неумно разрушать то, что многими людьми воспринимается как отдушина — церковную традиционность [33]. Не только консервативность православия способствует сегодня успеху его миссии. Но и обратно, миссионерский успех 90-х годов привел к тому, что Церковь стала более консервативной: «В 50-80-е годы русское Православие представляло собой нечто гораздо более либеральное, чем мы видим ныне. Но без дебатов, без обличительства, без всякой агитации большинство новобращенных, которых никто не ориентировал политически, утвердились именно на консервативной позиции, восторжествовали именно традиционные взгляды! Церковь очень разрослась — не десятки, а даже сотни новых приходов по всей стране с молодыми пастырями во главе. Такое развитие вполне могло происходить иначе, вдохновляться другими, более „прогрессивными“ лозунгами и идеями. Более того, на фоне горбачевской „перестройки“ — явления по своей сути более чем либерального — модернистский вариант выглядел бы более логичным» [34]. Но Церковь молодых неофитов стала более консервативной…
Церковь не должна слишком адаптироваться к духу современности — иначе она утратит свое назначение. Религия дает человеку возможность бывать иным. Хотя бы на время помещать себя вне привычных социальных связей и забот. Опять скажу словами Цветаевой: «На том свету. Поймите: вещи, иначе освещенные, иначе увиденные. Пока будет жить это выражение в русском языке, будет жить и русский народ!».
На протяжении веков социальная роль церкви заключалась в растождествлении человека с его социальной ролью, в стремлении предоставить человеку возможность быть другим. В одном из рассказов Солженицина говорится, что особенность русского пейзажа раньше была в том, что в России не было места, где не был бы слышен колокольный звон. С каждой колокольни можно было увидеть три-четыре колоколенки в соседних селах. Конечно же, крестьянин не мог быть на всех службах. Он работал. Но во время работы, когда он слышал звон, зовущий на службу, он поднимался, смотрел в сторону колокольного призыва, крестился и просил Небо благословить его труд. И вот то, что крестьянин хотя бы на минуту поднимался с колен и смотрел на небо, не давало ему окончательно опуститься на четвереньки.
Если на Западе авторитет религиозных организаций во многом зависит от того, насколько активно они вмешиваются в политику и дают свои оценки текущим событиям светской жизни, то в России наоборот. Если и есть у Церкви авторитет, то лишь потому, что она считается находящейся вне политической круговерти.
8. МИССИОНЕРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И еще в одной перспективе именно несоответствие православия «духу века сего» способно делать православие более привлекательным. В качестве примера возьмем проблему миссионерских технологий. Современная цивилизация технологична. И воспитанный ею человек также всюду ищет технологий. «Как выучить английский язык за 20 уроков?». «Как избавиться от запоя за 5 сеансов?”. „Как самому построить дачный домик за один месяц?“. „Как попасть в Царствие Божие в пять шагов“. А православие нетехнологично. В отличие от современных сект, у нас нет готовой технологии, которую можно было бы предложить „клиенту“. Поэтому мы проигрываем тем, у кого эти технологии есть.
Очень технологичен оккультизм: «Хочешь достичь просветления? — Вот тебе мантра, вот тебе гуру, вот тебе поза; иди и пой!».
Весьма технологичен неопротестантизм. «Ты принимаешь Христа как личного Спасителя? Аллилуйя! Ты спасен! Распишись вот тут и поставь дату!». Неопротестант помнит, как его обратили. Он помнит, как к нему подошли, как обратились, в каком порядке задавали вопросы и какие библейские цитаты или аргументы приводили в ответ… А потому обращенный протестант и сам в состоянии вопроизводить эту миссионерскую технологию уже в своем общении с другими людьми.
Но в православии нет таких миссионерских технологий. Но в православии нет таких миссионерских технологий. Я сам теряюсь, когда от теоретических вопросов мои собеседники переходят к вопросам практическим. Однажды меня поставил в тупик самый простой вопрос: «Что мне сделать, чтобы стать православным?». Этот вопрос мне задал юноша после моей лекции в сибирском городе Ноябрьск. И я растерялся. Если бы он спросил меня об отношении к «Розе мира» или о характерных чертах церковного богословия третьего столетия, я бы ему ответил… А он спросил о самом важном… В Евангелии есть ответ Спасителя на аналогичный вопрос. Юноше, спросившему, что ему делать (делать, а не читать!) ради наследования жизни Вечной, Христос предложил оставить все и идти за Ним. Но я же не Христос… Тем не менее я предложил нечто схожее. У меня не было в те дни и получаса, чтобы поговорить с этиим юношей наедине. Но и одной минуты хватило, чтобы выяснить,что он только что окончил университет и приехал на Север искать работу. «Но если ты ищешь работу, значит сейчас ты безработный?» — «Да». — «Если ты безработный, значит у тебя есть свободное время?» — «Да» — «Тогда цепляйся за мою рясу и походи за мной на все лекции, что я буду читать здесь в ближайшие три дня… Может быть, ты что-то свое расслышишь…». На третий день прощаемся — и в полярной ночи я вдруг вижу, что он плачет… Значит — что-то расслышал. А вот что именно — я не знаю до сих пор.
Православная проповедь действительно нетехнологична. Но именно поэтому она может привлекать людей, которые боятся технологий. Ведь в обществе, пережившем десятилетия тоталитаризма, естественно, есть немало людей, в которых живет страх, присущий щенку из одного дивного советского мультфильма. Помните, тот щеночек всегда боялся — «А меня посчитали!». Эта осторожность перед миром технологий и номеров понуждает людей сторониться от той религиозной проповеди, которая откровенно технологична, и в своей откровенности не скрывает, что ее интересует лишь потребление некиим сообществом еще одной доверившейся души.
Православие молчит. Оно не зовет и не зазывает. И это тихое православие проповедует самой своей неслышностью, неагрессивностью.