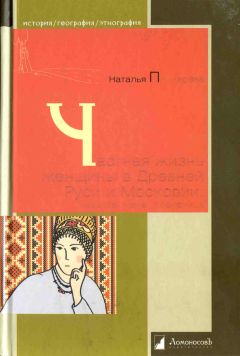Рене Жирар - Насилие и священное
Инцест не столько правило, запрещающее вступать в брак с отцом, сестрой или дочерью, сколько правило, обязывающее отдавать мать, сестру или дочь другому.[88]
Мы сами уже решили вопрос об этом приоритете, и решили в обратном по сравнению с Леви-Строссом смысле: запрет первичнее. О первичности запрета говорит весь комплекс нашей гипотезы. Позитивный обмен — лишь изнанка запрещения, результат серии маневров по «avoidance taboos» [избеганию табу], по уклонению в числе прочих бед и от поводов к соперничеству. Шарахаясь от пагубной эндогамной взаимности, люди попадают в благую взаимность экзогамного обмена. Не стоит удивляться, если в гармонично функционирующей системе по мере затухания угрозы на первый план выходит позитивность правил. В принципе тем не менее брачные правила похожи на те идеально геометрические и упорядоченные фигуры танца, которые без собственного ведома исполняют под влиянием совершенно посторонних искусству танца негативных чувств вроде ревности или любовной досады персонажи классической комедии.
Леви-Стросс, несомненно, прав, отводя небольшое место фобии и сопутствующей ей возбужденности, которая тоже — по крайней мере, как культурный феномен — есть проявление кризиса. Из этого не следует, что запрет не первичен. Чтобы решить спор в его пользу, достаточно отметить, что обратное решение сделало бы неразрешимой проблемой включение нашего общества в универсальную этнографическую панораму.
Если основным элементом мы сделаем правило, то оторвем от человечества то общество, которое не имеет позитивных правил и фактически ограничивается основным экзогамным запретом, — то есть наше. Структурализм охотно заявляет, что в нашем обществе нет ничего уникального, но, ставя акцент на правиле, он в конечном счете придает нашему обществу уникальность неслыханную и абсолютную. Ставить это общество ниже всех прочих — это всегда значит ставить его и выше всех прочих, посредством процесса самоисключения, который в конечном счете всегда связан со священным. Чтобы сделать нас такими же людьми, как и все остальные, нужно отказаться от порядка приоритетов у Леви-Стросса и смириться с относительной уникальностью нашего общества.
Почему Леви-Стросс ставит правило на первое место? Он открыл метод, позволяющий систематизировать структуры родства. Он может отобрать у импрессионизма один из разделов этнографии. Имплицитно все подчиняется этой задаче. В приоритете системы над запретом сказался выбор этнографии самим этнографом. Поэтому можно перечислить множество причин, но все они сводятся к одной — к историчности становящегося знания. Пора позитивного правила настает первой. Время структурализма — это тот момент, когда системы рушатся почти везде. Знание должно расчистить развалины, прежде чем запрет, словно просвечивающая под песком скальная порода, выйдет наружу, прежде чем он снова заставит себя признать и на этот раз — лишь в самой основной своей сути.
Что запрет приходит первым, доказывается тем, что он же остается и последним, что он сохраняется до самого критического момента кризиса, даже тогда, когда система уже исчезла. Никогда прежде запрет не выходил из тени. Он оставался в жертвенном укрытии, которое защищает основные различия и в наши дни продолжается в похвальбе трансгрессией.
Все попытки подобраться к сущности и генезису культуры, исходя из запрета, всегда терпели крах; в той мере, в какой они удавались, они остались бесплодны, остались непоняты. Так обстоит дело в первую очередь с «Тотемом и табу». В этой книге Фрейд эксплицитно заявляет о приоритете запрета над экзогамными правилами. Подход, который позже выберет Леви-Стросс, был не упущен, а категорически отвергнут:
Объяснение эксогамического ограничения преднамеренным сексуальным законодательством ничего не дает для понимания мотива, создавшего эти институты. Откуда берется в конечном результате боязнь инцеста, в которой приходится призвать корень эксогамии?[89]
Запрет первичен, но эта первичность, как мы видим, всегда понимается в категориях «боязни», «фобии». Чтобы поставить вопрос о происхождении запрета, нужно осуществить «возврат к Фрейду», но не покидая структуралистскую перспективу.
Именно это, судя по всему, хотят сделать Жак Лакан и те, кто вокруг него группируется, выставляя лозунг «возврата к Фрейду». Это дело самое нужное, и одно то, что оно задумано, уже важно, но оно, по нашему мнению, обречено на неудачу, поскольку понимает «возврат к Фрейду» как возврат к психоанализу.
Леви-Стросс показал, что элементарную семью нужно понимать на основе системы родства [, а не наоборот]. Эта методологическая инверсия сохраняет для нас свою силу, при том условии, что приоритет мы отдаем уже не системе, а запрету. Как мы сказали выше, нужно понимать семью как производное от запрета, а не запрет как производное от семьи. Если и есть принципиальный структурализм, то он в этом, и поэтому мы полагаем, что структуралистское прочтение психоанализа невозможно. Именно это наши разборы в двух последних главах пытались продемонстрировать. Всякое столкновение между структурализмом и психоанализом должно привести к взрыву, в котором последний исчезнет, а на свободу вырвутся главные фрейдовские интуиции — миметизм отождествлений, коллективное убийство из «Тотема и табу».
Лакан, напротив, обращается к главным понятиям психоанализа и, в частности, к эдипову комплексу, из которого он, видимо, хочет сделать движущую силу всякой структурации, всякого введения в символический порядок. Но именно этого фрейдовское понятие абсолютно не допускает, под каким бы соусом его ни подавали. Под клятвы в вечной верности малейшему слову Фрейда бесшумно удаляют все тексты, в которых дано определение комплекса. И напрасно — ибо заодно устраняются и реальные, но отнюдь не «эдиповские» интуиции, которыми эти тексты полны.
Следует помнить, что за пределами этих текстов и других текстов того же рода у Фрейда нет ничего, что оправдывало бы роль универсального deus ex machina, присвоенную эдипову комплексу. Если не опираться ни на тексты самого учителя, ни на их ясное и последовательное исправление, ни на какие бы то ни было этнографические толкования, то придется объяснить, почему до сих пор так необходимо превращать «эдипов комплекс» — пусть в крайне разреженной, герметичной и в конечном счете непостижимой форме, в «царя и отца» всего.
Разумеется, эта исходная и фундаментальная неудача отзывается практически повсюду [у Лакана]. И жаль, поскольку у него уловлены и рассмотрены зеркальные эффекты, которые множатся в современном мире и которые обычно проходят незамеченными. К сожалению, они получают определение воображаемых и их включают в теорию нарциссизма, то есть в теорию желания, которое повсюду ищет собственное отражение. Мы, со своей стороны, видим и во фрейдистском нарциссизме, и во вторящем ему литературном нарциссизме XIX и XX века, миф, распускаемый желанием, которое уже узнало: чтобы завладеть объектом, нужно всегда скрывать свою недостачу, всегда притворяться обладателем той великолепной автономии, которую на самом деле отчаянно ищешь в другом. Нарциссизм — это инверсия истины. Утверждается, что тебя соблазняет такое же и разочаровывает иное, тогда как в реальности, наоборот, иное соблазняет, а такое же разочаровывает — точнее, то, что считается таковым в обоих случаях, как только миметизм замкнется во взаимности насилия и может прикрепиться лишь к своему антагонисту; отныне его может удержать лишь то, что служит ему преградой.
Ключ к структурациям нужно искать в любой трансцендентности, где еще воплощается единство общества, а не в том, что демонтирует, стирает и разрушает эту трансцендентность, погружая людей обратно в мимесис бесконечного насилия. Конечно же, перманентный кризис современного мира придает некоторым неофрейдистским взглядам частичную, косвенную, относительную истинность; но проект в целом тем не менее систематически толкует все шиворот-навыворот. Он не позволяет постичь даже синхронические структуры; реальное постижение открыло бы и собственную ограниченность, а вместе с ней — и релевантность такой попытки, как «Тотем и табу». Догматическая приверженность формализму выдает неспособность до конца прочесть саму форму. Либо хранить верность психоанализу и оставаться по сю сторону леви-строссовской революции в области родства, либо отказываться от психоанализа, чтобы перенести эту революцию в центр самого запрета, и вернуться к его генезису как реальной проблеме, снова приступить к работе над проектом, начатым в «Тотеме и табу».
Мысль — как всегда, когда она идет вперед, — сегодня больна; она обнаруживает неоспоримые патологические признаки в тех редких местах, где она еще жива. Мысль поймана в круг — тот самый, который уже описал некогда Еврипид в своих трагедиях. Мысль полагает, что находится вне круга, тогда как в реальности замыкается в нем все теснее. По мере сокращения радиуса мысль кружится все быстрее по все меньшему кругу, по кругу одержимости. Но не существует той простой и ясной одержимости, какую воображает пугливый антиинтеллектуализм, раскинувшийся сколько хватает глаз. Мысль освободится от круга не выходом из него, а лишь дойдя до центра — если она сумеет это сделать, не впав в безумие.