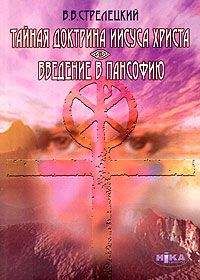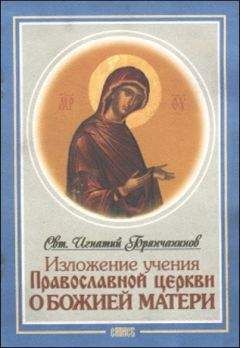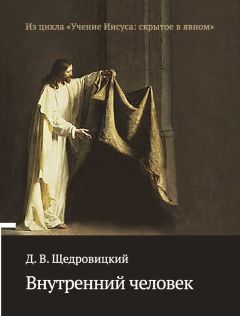Жозеф де Гибер - Духовность Общества Иисуса
Наконец (п. 30) он рассказывает о великом озарении, обретенном на берегах Кардонера, каковое описывает следующим образом: «…у него стали открываться очи разумения. Не то чтобы ему было какое-то видение, однако он понял и узнал множество вещей – как духовных, так и относящихся к вере и к наукам, – и притом с таким великим озарением, что всё это показалось ему новым <…> ему показалось, будто он стал другим человеком, с другим разумом, нежели прежде. <…> тогда он получил столь великую ясность понимания, что ему кажется: если собрать всю помощь, полученную им от Бога на всём протяжении его жизни, за прошедшие шестьдесят два года, а также всё то, что он познал, и даже если соединить всё это вместе, то он не обрёл бы столько, сколько в тот единственный раз» (п. 30–31).
Какова в точности природа тех милостей, которые описаны в этих строках, продиктованных святым под конец своей жизни в присущем ему осторожном и неровном стиле, в котором ощущается, как вдумчиво он взвешивал каждое слово, прежде чем произнести его? Прежде всего поражают два обстоятельства: очень бедная образность его видений и важность, богатство содержания, которое Игнатий по-прежнему видит в них даже тридцать лет спустя. Это было бы необъяснимо, будь перед нами простые образные видения, пусть даже сверхъестественного происхождения: в таких видениях, в сущности, предмет видения постигается разумом лишь через посредство видимых образов и лишь постольку, поскольку эти образы способны его явить. Однако образы, описанные Игнатием, могли явить ему лишь самые простые истины о Троице и Христе. Все это было бы тем более необъяснимо, если бы мы пожелали видеть в этих образах простые зрительные галлюцинации самого скудного содержания. Посему приходится признать, что со времен Манресы, как мы вновь убедимся позже, милости, обретаемые нашим святым, были на самом деле высокими умственными озарениями, даруемыми Богом непосредственно разуму, а образы, им описанные, – всего лишь отзвуком этих озарений в душе человека, от природы наделенного богатым воображением, однако еще слишком бедным символическими образами, пригодными для такого рода постижений. Мы уже обращали внимание на то, какое место занимает в жизни Игнатия образное размышление, воссоздающее видимые сцены прошлого или рисующее воображению возможные сцены будущего; но совсем другое дело – сила воображения символического, которое, как кажется, было у него очень слабым, бесконечно более слабым, чем у многих других мистиков. Кроме того, сам святой, как кажется, призывает нас к такому пониманию, настойчиво говоря в приведенных текстах об очах разумения, о вознесении ума, о мысленном представлении…[37]
Это обстоятельство чрезвычайно важно, ибо оно показывает нам, что еще в Манресе Игнатий был поставлен на путь высшего излиянного созерцания. Если богословы и мистики единодушно проводят четкое различие между образными видениями и даром излиянного созерцания в собственном смысле слова, то столь же единодушно рассматривают они чисто умственные озарения, особенно о Троице, как признак высокого уровня излиянного созерцания. В случае нашего святого стезя созерцания с самого начала представляется совершенно иной, нежели та, что столь искусно описана великим учителем мистики св. Иоанном Креста, и мы увидим, что все развитие его мистической жизни пойдет совершенно особым путем; но уже в Манресе мы видим его одаренным тем опытным умственным знанием Божественного присутствия в душе, которое составляет необходимый фон излиянного созерцания.
Вторую часть этого первого этапа духовного пути составляет паломничество в Иерусалим. Плодом этого путешествия станет еще более нежная любовь святого к человеческой природе Христа и тайнам его земной жизни, а также, как кажется, возросшее стремление помогать ближнему, что он вознамерился делать на Святой Земле, не открывая этого окружающим. В то же время представляется, что в основных чертах его духовной жизни никаких заметных перемен не происходило: в ней по-прежнему господствовала мысль о молитвенной жизни и выдающихся делах покаяния в служении Христу, Вечному Царю. «Автобиография» ограничивается такого рода идеями и упоминанием нескольких видений Христа, подобных манресским, которые поддерживают паломника в самые трудные моменты путешествия[38].
Напротив, очень важны были те рассуждения, которым предавался Игнатий на обратном пути в Венецию, с того времени как вынужден был заключить: воля Божия не в том, чтобы он остался в Палестине. О деталях этих рассуждений и об этапах изменения своего идеала он умалчивает; он отмечает лишь итог: «…он всегда ходил, размышляя о том, quid agendum, и в конце концов склонился к тому, что некоторое время ему нужно поучиться, дабы он мог оказывать помощь душам, и решил идти в Барселону»[39]. Это решение заняться учебой показывает, что он не намерен больше оказывать помощь душам просто благочестивыми беседами, как он уже делал в Манресе и мечтал делать на Святой Земле; он хочет получить возможность вершить подлинное апостольское служение. Отныне первое место среди его занятий займет возвышенное апостольское служение как дело, превосходящее все подвиги покаяния, которым он сможет отличиться среди верных рыцарей Христовых.
Студенческие годы
Так открывается второй период духовной жизни Игнатия, период, который начинается вместе с уроками магистра Ардеволя в Барселоне в 1524 г. и продолжается до отъезда Игнатия из Парижа в Аспейтию в марте 1535 г.: десять лет учебы, чередующейся с апостольством, более или менее активным, в зависимости от времени и обстоятельств, но всегда относительно умеренным. В разговоре с Лаинесом, изложенном им в 1547 г.,[40] святой четко отличает этот второй период от предшествующего и последующего: «То, что он обрел в Манресе, сказал он, и то, что во времена, когда отвлекся на учебу (en el tiempo de la distraction de su estudio), имел обыкновение превозносить (magnificar) и называть своей ранней Церковью, было очень мало в сравнении с тем, что переживал он теперь». Теперь – значит в момент разговора, то есть между 1537 и 1547 г. Таким образом, великому изобилию даров в Манресе приходит на смену период «отвлечения на учебу», который, в свою очередь, уступает место еще более великим милостям. То же разграничение этих трех периодов можно найти в «Автобиографии»[41], там, где Игнатий говорит, как он был в Виченце во время своего рукоположения во священство в 1537 г.: «…его посещало много духовных видений и он много раз (почти регулярно) испытывал утешение – в противоположность тому, как было в Париже. Особенно тогда, когда он начал готовиться стать священником в Венеции, когда готовился служить первую Мессу, <а также> во всех этих путешествиях он пережил великие сверхъестественные “посещения” того рода, которые он обычно переживал, находясь в Манресе». Рибаденейра, со своей стороны[42], сообщает, что во время учебы Игнатий всецело предавался занятиям, довольствуясь посещением мессы и короткой молитвой (con oyr missa у роса oratión).
Как понимать это «отвлечение» во времена учебы? Прежде всего, ясно, что, если вспомнить о его семичасовой молитве в Манресе, то «краткую молитву» в Париже можно толковать как понятие довольно растяжимое. Что до двух лет, что он провел в Барселоне, то Хуан Паскуаль, который спал тогда в той же комнате, что и святой, свидетельствует нам о его долгих ночных молитвах, прерываемых слезами, вздохами и восторгами[43]; дочь Хуана также будет говорить о его восторгах во время трапез при виде изображения Тайной вечери[44]. Мы не располагаем прямыми свидетельствами о его пребывании в Алькале и Саламанке, но детали свидетельских показаний, представленных в ходе двух судебных процессов в Алькале, в 1526 и 1527 гг., говорят о том, что Игнатий много занимался преподаванием Духовных упражнений и наставлением ближних в благочестии, вместе с ними предаваясь многочисленным делам молитвы и покаяния. Таким образом, как явно подсказывает нам сам святой в своей беседе с да Камарой, этот период его проживания в Париже мы должны рассматривать собственно как время учебы, отличное от двух других периодов.
К сожалению, у нас нет никаких точных данных о том, какова была внутренняя жизнь Игнатия в эти семь лет, с февраля 1528 г. по март 1535. Мы знаем лишь, по эпизоду его путешествия в Руан[45], совершенного пешком, без еды и питья, что он не отказывался, по меньшей мере в крайних случаях, от святых безумств Манресы и что Бог вознаграждал его великими утешениями; не отказывался он – мы это знаем – и отдел милосердия и апостольства, предаваясь им в разной мере в зависимости от времени[46]. Но мы не знаем, какова была тогда его молитва – та, которую он ограничивает во времени, – и какие сокровенные мысли больше всего занимали его душу и руководили его поступками.