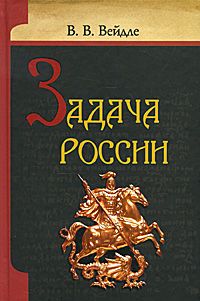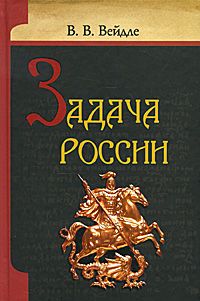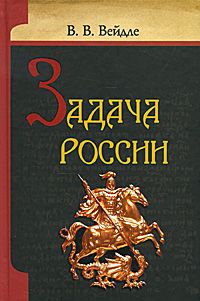Владимир Вейдле - Умирание искусства
В «Анне Карениной» под видом художника Михайлова, заканчивающего рисунок, изображен романист, создающий одно из своих действующих лиц. Михайлов берет запачканную и закапанную стеарином бумагу, на которой он начал рисовать набросок для фигуры «человека, находящегося в припадке гнева», кладет ее перед собой на стол, всматривается и вдруг с радостью замечает, что пятно стеарина дает фигуре новую, нужную ему позу «Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергичное лицо купца, у которого он брал сигары, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости, фигура вдруг из мертвой, выдуманной, стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена. Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру, во всей ее энергической силе, такою, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна».
Картина, нарисованная Толстым, едва заметно искажена налетом «реалистической» эстетики (сюда относится обязательность готового куска действительности, без которого фигура якобы остается «выдуманной», «мертвой»); в целом она правдива и точна: Толстой глубоко понимал свое искусство, о чем свидетельствуют даже его беспомощные рассуждения об искусстве вообще. Отметил он в этих нескольких строках и случайное, т. е. иррациональное, зарождение живого образа — из стеаринового пятна; и такое же иррациональное вплетение в него элементов, заимствованных «из жизни»; и самое главное — то, что образ с самого начала дан целиком, так что это целое в нем предшествует частям и остается только «откидывать» то, что его скрывает, по способу Микеланджело, точно так же понимавшего свое искусство, точно так же в одно мгновение угадавшего будущего «Давида» в огромной, казалось, безнадежно испорченной глыбе мрамора. Именно так создаются не «типы», не собирательные гомункулы, а воплощенные, живые лица. Художник Михайлов «глотает впечатления», как говорится страницей дальше, прячет их про запас, но впечатления эти — не кубики, из которых само собой, при участии одного лишь рассудка и расчета, строится игрушечное здание. Все различие между Толстым и романистами, работающими по рецепту Горького, в том и заключается, что он видит нечто такое, чего они не умеют увидать, сколько ни «присматриваются», ни наблюдают, ни копят материалов. Михайлову даже неприятно, когда говорят о «технике», ибо вся его техника в том состоит, чтобы, «снимая покровы, не повредить самого произведения», тогда как у тех самое искусство исчерпывается техникой, прилагаемой к извлеченным из действительности частицам, которые она в лучшем случае способна прикрепить друг к другу, но совершенно не в силах переплавить в одно и оживить.
В замене лица, рождаемого чувством целого, «типом», составляемым из частей, немалую роль сыграло подражание науке. Современному романисту вроде американцев Льюиса или Драйзера нужен, в сущности, вовсе не роман, не самодовлеющее бытие его героев, а лишь возможно более яркая иллюстрация его мыслей об Америке, о разных породах американцев и о типичных для той или иной породы жизни, характере, судьбе. Он поступает не как художник, созидающий людей, а как ученый, отбирающий для определения данной среды или эпохи особенно характерных для нее человеческих особей. И даже когда он не отбирает, когда он строит, он делает это, как историк, изучающий французского горожанина XII века или английского рабочего эпохи промышленной революции, для каковой цели и в самом деле необходимо присмотреться к «сотне-другой» таких рабочих или горожан. Построения такого рода могут быть весьма интересны и полезны, но роман, в котором они преобладают, превращается все же в социологический трактат, как это уже случилось с романами Золя и как это снова становится чуть ли не правилом в американской, советской и отчасти немецкой литературе. Насадителям и любителям такой литературы неизменно кажется, что она особенно близка к жизни, на самом же деле верно как раз обратное. Как раз неизбежная для науки отвлеченность самого метода делает натуралистический или «производственный» роман гораздо более отдаленным от жизни, чем самая «условная» и «неправдоподобная» елизаветинская трагедия. Это Отелло и Яго — живые люди, а не синтетический лавочник (в том же смысле, в каком говорят о синтетическом каучуке) социологов и статистиков, в которого так по-дикарски уверовал Горький. Наука разлагает и слагает, умерщвляет, дабы уразуметь. Искусство рождает жизнь — непроницаемую, как и всякая жизнь, в самой глубине, для анализирующего научного познания.
2
Всякое творчество основано на вере в истинность, в бытие творимого; без этой веры нет искусства. Для того, чтобы создать живое действующее лицо, нужно верить в целостность человеческой личности — именно верить, так как не во всяком опыте она дана и нельзя доказать ее доводами рассудка. Восприниматься целостность эта может по-разному; но так или иначе она должна быть воспринята, пережита, а переживается она всегда как нечто самоочевидное, бесспорное. Как только самоочевидность эта ослабевает, романисту или драматургу остается изображать человека, основываясь на отдельных «характерных чертах», заимствованных непосредственно из жизни (отчего они не становятся еще способными давать жизнь) или выведенных логически из каких-нибудь общих предпосылок. Романист XIX века, Бальзак или Толстой, видел человека во всей полноте его бытия — и своей веры в это бытие, — таким, каким его должен видеть сам Творец; современный романист видит его, как человек, средний опыт которого не позволяет обнять во всей полноте бытие другого человека. Отсюда некоторый отлив жизни в людях, создаваемых им, чего нельзя отрицать и для гениальной книги Пруста, где человек показан не таким, как он есть, а лишь таким, как он является рассказчику. Отсюда же и то хитроумное склеивание распавшихся атомов, которым автор «Улисса» стремится заменить иррациональное единство и иррациональную сложность человеческого образа. У большинства современных романистов, хотя бы во всем остальном и несхожих между собой, люди изображаются, пожалуй, и верно и точно, но так именно, как мы чаще всего воспринимаем людей в жизни: односторонне, с той стороны, какой они повернуты к нам, без попытки изобразить их сразу со всех сторон. Способ этот позволяет многое выразить и многое понять, но правдоподобием подменяет правду и никогда не приведет к созданию целостного живого человека, никогда не позволит до конца отделить личность автора от личности его героя, т. е. совершить ту чудодейственную операцию, без которой немыслимы ни театр Шекспира, ни «Война и мир», ни вообще та драма и тот роман, какими славится европейская литература. Не прибегая к этой операции, можно написать отличную книгу, собрать множество интересных наблюдений, быть моралистом, психологом, стилистом, но нельзя повторить гордых слов, сказанных о себе Бальзаком, нельзя «faire concurrence a l'etat civil».
У Федьки Каторжного в «Бесах» «глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган». Это «непременно» как бы вырвалось против воли у Достоевского и, быть может, попало нечаянно в текст романа из записной книжки или черновика. Слово это свидетельствует о том, что автор не «сочинял» своего героя, но видел его перед собой, не придумывал цвета его глаз, но переживал этот черный цвет как необходимый, непременный. И точно так же, если княжна Марья краснеет пятнами, если у жены князя Андрея короткая верхняя губа, то это не ярлыки, наклеенные на них для легкости распознавания, а черты прирожденные в подлинном смысле слова, с которыми искони являлись эти образы Толстому и без которых он сам представить их себе не мог. Будь эти черты просто-напросто подсмотрены у живых людей и люди эти внесены в роман «прямо из жизни», необходимость оказалась бы подмененной более или менее правдоподобной случайностью, и точно так же у произвольно конструированного героя, которым автор распоряжается до конца, потому и отсутствует подлинная жизнь, что нет в нем ни одной черты неотъемлемой и непременной — для автора, как и для читателя, — подобной цыганским глазам Федьки, блеснувшим Достоевскому из неведомых творческих потемок раньше, чем сверкнут они на Ставрогина в ночном ненастье, на пути в заречную слободу.
Теория всего ясней усматривает то, чего начинает не хватать на практике. Создание живых людей перестает на наших глазах быть для писателя возможным или даже интересным. Изменяется самое существо литературного героя: он теряет самостоятельность, из трехмерного становится двухмерным, из вполне конкретного — полуотвлеченным, схематизируются приемы его изображения, и он сам грозит превратиться в схему. Действующее лицо современной драмы или романа бывает либо выужено из действительности, либо механически построено из пружин и рычагов, либо, наконец, сооружено (как уже упомянутые «типы») путем комбинации обоих методов; и в том, и в другом, и в третьем случае вместо жизни получается иллюзия жизненности, вместо человека — заводная кукла. С точки зрения русской литературы, где так долго торжествовал самодовлеющий, живой, переросший книгу человек, это омертвение его кажется особенно непонятным и зловещим, однако и здесь оно сказалось с полной ясностью. Лев Толстой из глины лепил людей; Ал. Н. Толстой с большим умением и в любом количестве лепит на заказ человекоподобные глиняные фигурки. Герои Леонова (в «Воре», например) больше всего напоминают тени, отброшенные на ходу героями «Подростка» или «Идиота». Советский обыватель из рассказов Зощенко должен еще напиться горячей крови, как вызванные Одиссеем мертвецы, чтобы стать похожим хотя бы на своего предка из рассказов Чехова. Точно такое же различие легко было бы установить между героями западных современных романистов и людьми Гарди и Флобера, или Филдинга, или Сервантеса. Не забудем при этом: лучшие современные писатели вовсе не те, что силятся продолжать иссякшую традицию и населяют бледные свои книги призраками и двойниками литературных героев прошлого; это те, что стремятся нарисовать образ человека таким, каким они его видят — и другим не могут увидать, — мерцающим, неверным, в бесконечном сиротстве, в одиночестве, ищущим опоры и не находящим ее ни в мире, ни в себе. Нет личности, но есть жадные поиски себя — и других — в лабиринте Потерянного Времени. Нет жизни, но есть вспышки сознания, трепетания чувства, зарегистрированные тончайшим сейсмографом души в «Волнах» Вирджинии Вулф. Нет человека, но есть его осколки, страстно стремящиеся срастись в «Защите Лужина», в «Подвиге», в прозаических писаниях Пастернака, у многих русских и иностранных авторов младшего (так называемого) поколения. Повсюду нет-нет да и мелькнет озябшая, бедная, предсмертная душа «animula, vagula, blandula» императора Адриана, или недоносок Баратынского, обреченный витать меж землей и облаками или бесовский двойник Ивана Карамазова, продрогший в космическом сквозняке и мечтающий воплотиться в семипудовую купчиху.