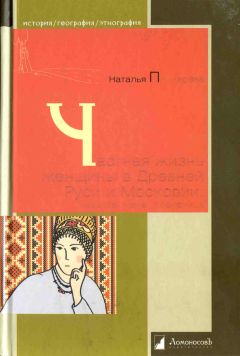Рене Жирар - Насилие и священное
Насколько мне известно, лишь писатели по-настоящему догадывались об этом процессе мистифицирующей мистификации — но не психоаналитики, не социологи. Замечательнее всего здесь фактическое соучастие собственно литературной критики, ее послушное потворство — разумеется, не «редуцирующим» претензиям той или иной доктрины, которые критика свирепо поносит за все, что в них есть по-настоящему проницательного и близкого к шедеврам, ею будто бы защищаемых, — но общему принципу абсолютной беззубости и незначительности «литературы», априорному убеждению, что ни одно произведение, снабженное ярлыком «литература», не может иметь ни малейшего отношения к какой бы то ни было реальности. Несколько раз мы видели, как Софокл разоблачает мифы психоанализа, но никогда не увидим, как психоанализ разоблачает мифы Софокла. Ни разу психоанализ по-настоящему не опережает Софокла; в самом лучшем случае, как здесь, Фрейд может к нему сколько-то приблизиться.
Анализировать текст под углом жертвы отпущения и ее механизма, рассматривать «литературу» в категориях коллективного насилия — значит ставить вопрос не только и не столько о том, что в тексте есть, сколько о том, что в нем пропущено. Это и есть, несомненно, главный прием радикального критического подхода. На первый взгляд, это невозможно, неосуществимо; всякое практическое приложение обречено, по-видимому, на предельную обобщенность, на такую степень абстрактности, что ее интерес останется крайне узок.
Но стоит еще раз обратиться к тому тексту, который мы комментируем, и станет ясно, что дело обстоит совершенно иначе. Мы находим весьма примечательное, а если вспомнить о контексте, даже ошеломляющее зияние.
Говоря о греческой трагедии, почти всегда ссылаются — прямо или косвенно — на одно конкретное произведение, которое считается самым репрезентативным, самым главным образцом и выражением всего трагического жанра. Эта начатая Аристотелем традиция жива и среди нас. Если ты Зигмунд Фрейд, то у тебя нет никаких причин ее отбрасывать; наоборот, есть все основания следовать ей.
И однако же Фрейд ей не следует. Разумеется, мы имеем здесь в виду «Царя Эдипа». Мы и сами обращались выше к этой трагедии. А Фрейд обходит ее полнейшим молчанием всюду — и в цитируемом нами тексте, и до него, и после него. Речь заходит об Атгисе, об Адонисе, о Таммузе, о Митре, о титанах, о Дионисе и, конечно, о христианстве (демистификация обязывает!), но ни разу — об Эдипе как трагическом герое, о «Царе Эдипе».
Могут возразить, что «Царь Эдип», в конце концов, — всего лишь одна из множества трагедий и ничто не обязывает Фрейда прямо цитировать ее. Пусть она в тексте специально и не упомянута, но вполне возможно, что она оттуда специально не исключена. Можно предположить, что она просто включена в общий ряд, объединена с остальным трагическим корпусом.
Возражение это не имеет силы. Стоит заметить отсутствие архетипической трагедии, как некоторые детали текста бросаются в глаза и прямо говорят, что это отсутствие совершенно не случайно.
Если перечитать фрейдовское определение вины, то станет ясно, что оно абсолютно неприложимо к «Царю Эдипу». Герой должен взять на себя так называемую «трагическую вину», которую не всегда легко обосновать; чаще всего это вовсе не вина, как мы ее понимаем в обычной жизни. Это определение подходит к большому числу трагедий, но безусловно — не к «Эдипу». В вине Эдипа нет ничего ни неясного, ни неопределимого — по крайней мере, на уровне крупных мифологических структур, где располагается фрейдовский дискурс.
Возможно ли, что Фрейд здесь не вспомнил об Эдипе, что он попросту забыл об Эдипе, что Эдип буквально выпал у него из памяти? Понятна выгода, которую чуткие ищейки неопсихоанализа, пущенные сворой по следу «Тотема и табу», могли бы извлечь из этого забывания с точки зрения симптоматики. Им следовало бы увидеть в «Тотеме и табу» не классический возврат вытесненного в соответствии со стандартным диагнозом, а скорее максимальнейшее углубление вытеснения, доходящее до самого глубокого из всех бессознательных, или же, если угодно, поистине сенсационную, сногсшибательную пропажу Эдипа — самого Эдипа! — в лабиринте фрейдовского означающего!
Кажется, будто Фрейд «Тотема и табу» так не похож на себя, что бессознательно вычеркивает Эдипа, подавляет Эдипа. У нас кружится голова. Переливы фффантазмов [так!] учащаются до такой степени, что мы слепнем!
К счастью, есть и другая возможность. В предложении, которое мы только что еще раз процитировали, есть маленькая оговорка, которая может оказаться важной. Фрейд говорит, что трагическая вина не имеет ничего общего с тем, как мы понимаем вину в обычной жизни, чаще всего. Сказать «чаще всего» — значит признать, что это утверждение имеет силу не всегда, значит допустить возможность исключительных трагедий — может быть, нескольких, по меньшей мере — одной. Этот минимум представляется вполне существенным. В одной трагедии несомненно имеется трагическая вина, имеющая отношение к тому, что считаем ошибкой в обычной жизни, — отцеубийство и инцест «Царя Эдипа». Вполне эксплицитная оговорка «чаще всего» не может не иметь виду Эдипа — и скорее всего, только он и имеется в виду.
На протяжении всей книги Эдип блистает отсутствием. Этот пропуск нельзя назвать ни естественным, ни бессознательным — он совершенно сознателен и рассчитан. И искать здесь нужно не комплексы, а обычные мотивы (к тому же мотивы намного более разнообразные и интересные, чем комплексы). Нужно задать вопрос, почему в одном из текстов Фрейда Эдип подвергается вполне систематическому исключению.
Если рассмотреть это исключение в свете не только контекста, но и всего текста, оно покажется еще удивительнее. О ком и о чем идет речь в «Тотеме и табу»? Об «Отце первобытной орды», который, как утверждается, однажды был убит. Итак, речь идет об отцеубийстве. Это и есть то преступление, которое Фрейд обнаруживает в греческой трагедии и в котором сами преступники обвиняют свою жертву. Но именно в убийстве Отца сперва Тиресий, а потом и все Фивы обвиняют несчастного Эдипа. Трудно мечтать о более идеальном совпадении, о более полном согласии между излагаемой в «Тотеме и табу» концепцией греческой трагедией и сюжетом «Царя Эдипа». Если когда и уместно вспомнить о случае Эдипа, то именно сейчас. Однако Фрейд молчит. Хочется дернуть его за рукав и напомнить ему, Зигмунду Фрейду, знаменитому первооткрывателю Oedipuskomplex'a, что есть трагедия, посвященная, представьте себе, как раз отцеубийству.
Почему же Фрейд лишает себя этого идеального довода, этого разительного примера? Ответ не вызывает сомнений. Если бы Фрейд воспользовался «Царем Эдипом» в контексте теории, которая связывает трагедию с реальным отцеубийством, он бы поставил под вопрос свою стандартную теорию, теорию официально психоаналитическую, которая делает «Царя Эдипа» простым отражением бессознательных желаний и исключает всякую этих желаний реализацию. В связи со своим собственным комплексом Эдип здесь предстал бы в странном свете. В качестве первоначального отца сам он отца иметь не может, и трудно было бы ему приписать хоть какой-то отцовский комплекс. Менее удачного имени этому комплексу Фрейд дать не мог.
В плане более общем и более существенном отметим, что в принципе нельзя представить обращенные против Эдипа обвинения в истинном свете, нельзя вписать отцеубийство и инцест в орбиту, где уже вращаются феномены типа «козла отпущения», пусть пока что в самом смутном смысле, и не спровоцировать вопросы, которые постепенно бросили бы тень на всю психоаналитическую мысль, — те самые вопросы, которые мы пытаемся поставить в данной работе.
Здесь возникает вопросительный знак, и Фрейду хочется его убрать, потому что он не видит ответа. Осторожный автор убрал бы весь текст о трагедии. К счастью для нас — и для себя, — Фрейд не был осторожным; он наслаждается богатством своего текста, своей интуиции; поэтому он решает его сохранить, но устраняет все неудобные вопросы, тщательно вычеркивая всякое упоминание о «Царе Эдипе». Фрейд повергает Эдипа цензуре не в психоаналитическом, а в самом обычном смысле этого термина. Значит ли это, что он хочет нас обмануть? Отнюдь нет. Он полагает, что способен ответить на любой вопрос, не тронув у психоанализа и волоска, но как всегда, торопится к выводам. Он идет дальше, откладывая решение на потом. Он так и не узнает, что решения нет.
Если бы Фрейд не уклонился от затруднения, если бы он углубил противоречие, то, наверно, признал бы, что ни первое, ни второе из его толкований Эдипа на самом деле не объясняют ни трагедию, ни эдиповский миф. Ни вытесненное желание, ни реальное отцеубийство не дают убедительного ответа, и неустранимая двойственность фрейдовских тезисов — не только здесь, но почти везде — отражает одно и то же искажение. Отворачиваясь от реальной проблемы, Фрейд сходит с потенциально самого плодотворного пути, ведущего, если его пройти до конца, к жертве отпущения. Таким образом, за исключением Эдипа в только что прочитанном тексте, за первым вполне сознательным и стратегическим исключением вырисовывается второе — на этот раз бессознательное и невидимое, но решающее с точки зрения текста, всем построением которого оно управляет. И снова психоанализу нечего сказать. Не у него надо искать ответа по поводу исключения, на котором основан, в числе прочего, и сам «психоанализ».