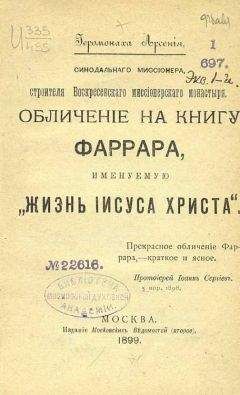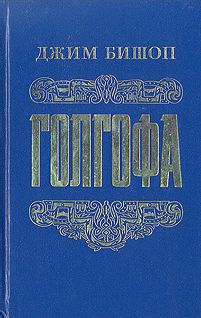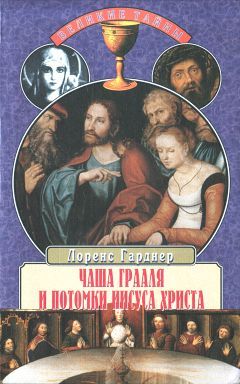Вальтер Каспер - Бог Иисуса Христа
Философия немецкого идеализма вновь попыталась осмыслить учение Писания о кенозисе. Для Гегеля абсолют — не субстанция, а субъект, который, однако, существует только посредством самоуничижения в другом. Существенным признаком абсолютного духа является то, что он открывает и манифестирует себя, т. е. что он представляет себя в другом и для другого и, таким образом, становится предметом для самого себя[769]. Таким образом, к сущности абсолютного духа относится то, что он полагает различие в себе самом и что в этом различии он тождествен с самим собой. Для Гегеля это является философским толкованием библейских слов «Бог есть любовь». Ведь любовь находит себя в другом — в уничижении. «Любовь есть различие двух, которые, однако, друг для друга совершенно неразличны»[770]. В этом самоуничижении смерть является высшей точкой конечности, высшим отрицанием и тем самым наилучшим наглядным образом любви Божьей. В этих категориях Гегелю удается мыслить смерть Бога. Как уже говорилось выше, он цитирует лютеранское церковное песнопение: «О великое бедствие, сам Бог умер» и говорит, что это «самая страшная мысль…; с этим связана высшая боль, чувство совершеннейшей безнадежности»[771]. Однако любовь подразумевает в различии одновременно примирение и воссоединение. Так, смерть Бога в одно и то же время означает снятие уничижения, смерть смерти, отрицание отрицания, реальность примирения. Таким образом, слово о смерти Бога значит, что Бог есть живой Бог, что Он может включать в себя отрицание и одновременно снимать его в себе.
Основной проблемой гегелевской философии является ее неустранимая двусмысленность. Если Бог с необходимостью должен унижать себя, то Он не может быть Богом без мира[772]. Но тогда различие между Богом и миром снимается в диалектическом процессе. Это ведет к вопросу, не превратился ли у Гегеля соблазн креста в спекулятивную Страстную пятницу? Если крест становится спекулятивно постижимым, он диалектически снят и примирен. Тогда он представляет уже не историческое событие, а выражение принципа любви, необходимую судьбу Бога. Но если смерть Бога представляется необходимой, принимается ли она тогда всерьез? Не затушевывается ли тогда вся глубина человеческого страдания? Здесь уместно привести слова Гете: «Кто розы соединил с крестом / И жесткость дерева облек / Венцом со всех сторон?..»[773] Так, философия субъективности Нового времени, с одной стороны, предлагает мышлению новые возможности решения проблемы страдания Бога, почти неразрешимой в рамках метафизической богословской традиции; с другой стороны, эта философия таит в себе несомненную опасность, так как она подвержена искушению упразднить крест Христов (1 Кор 1:17).
Возможности и опасности гегельянского мышления раскрываются в кенотическом богословии XIX и XX вв. Оно стремится сохранить христологическое предание древней Церкви и в то же время развить его. Мы встречаемся с новым подходом этой христологии у немецких кенотиков XIX в. — Г.Томазиуса, Ф. Г. Р. Франка, В.Ф.Гесса. Также это учение уже назвали «совершенным кенозисом рассудка»; К.Барт, однако, придерживается мнения, что оно заслуживает худшего названия. Ведь в действительности кенотики были вынуждены отказаться от Божественной природы Иисуса Христа, что вызвало только насмешки либеральных богословов. Англиканские кенотики в конце XIX в. — начале XX в. также находились под влиянием Гегеля, но пытались самостоятельно примирить святоотеческую христологию с реализмом в отношении человека Иисуса из Назарета в свете исследования Евангелий. Следует назвать Ч. Гора, Ф.Уэстона, К. Э. Ролта, У.Темпла, Р. Браснетта и др. Идеи Гегеля, иногда связанные с мыслями Бёме и Шеллинга, оказали влияние на некоторых русских православных богословов и мыслителей, прежде всего Вл. Соловьева, Тареева, Булгакова, Бердяева. В некотором смысле с ними связан испанский философ Мигель де Унамуно, который, в свою очередь, оказал влияние на Райнгольда Шнайдера.
Та же проблема в измененных условиях и под влиянием постидеалистической критики в адрес Гегеля продолжает обсуждаться такими современными католическими и евангелическими богословами, как К.Ранер, Г.У.фон Бальтазар, Г. Мюлен, Ж.Гало, Г.Кюнг, В.Каспер, Ю.Мольтман, Э.Юнгель, Г.Кох и др.[774] Исходя из совершенно иных предпосылок к той же проблеме подходят представители богословия процесса (Ч.Хартсхорн, Дж.Б.Кобб, Ш.Огден и др.), которые вслед за А.Н.Уайтхедом различают в Боге primordial и consequent nature (исходную и последующую природу)[775]. При этом, конечно, не всегда понятно, как сохранить законную цель аксиомы неизменности Бога. Актуальность богословия страдания для азиатского мышления демонстрирует книга К.Китамори «Богословие боли Бога»[776]. Последние отголоски этой кенотической тенденции проявляются в «богословии смерти Бога», которое между тем само мертво, подобно модной однодневке[777].
Этот обзор показывает, что библейское и церковное исповедание Иисуса как Сына Божьего представляет собой реальность, до сих пор не до конца осмысленную богословием. Богословие XIX и XX вв. стремится, исходя из этого исповедания, точнее, из креста Христова, заново интерпретировать понятие о Боге и Его неизменности, чтобы по–новому выразить библейское понимание Бога истории. Стало ясным, что при этом возможно опираться на отеческое богословие. Такая попытка понимать Бога и Иисуса Христа, исходя из идеи кенозиса, должна с самого начала остерегаться искушения превратиться в «мудрость мира сего», и должна вместо этого придерживаться безумия слова о кресте, которое есть мудрость Божья (ср. 1 Кор 1:18–31). Поэтому исходной точкой такой попытки может стать только свидетельство Библии, а не какая–нибудь философия, будь то классическая метафизика с ее аксиомой о бесстрастии Бога, идеализм с его идеей о необходимом самоуничижении абсолюта или современная философия процесса. Нам придется противостоять всем попыткам, предпринятым уже в гностицизме, превратить крест Иисуса Христа в мировой принцип, мировой закон или мировую формулу или объяснить его как символ всеобщего принципа «умри, чтобы жить»[778].
Мы можем представить решающий ход мысли в двух шагах:
1. На кресте вочеловечение Бога достигает своего собственного смысла и цели. Поэтому все происшедшее во Христе должно постигаться, исходя из креста. На кресте Бог самым радикальным образом проявляет свою самоуничижающуюся любовь. Крест есть самое явное выражение того, что возможно Богу в Его дарящей любви; это «id quo maius cogitan nequit» («то, больше чего нельзя помыслить»), непревзойденное самоопределение Бога. Поэтому это самоуничижение не есть отказ Бога от своей задачи и от своей Божественности. Напротив, открывшаяся на кресте любовь Бога является выражением непременной верности Бога своему обетованию. Живой Бог истории остается верным самому себе и не может отречься от себя (2 Тим 2:13). Поэтому крест — это не отказ Бога от своей Божественности, а откровение Божественного Бога. Именно непостижимостью своей прощающей любви Он доказывает, что Он — Бог, а не человек (Ос 11:9). Так, для Библии откровение Божьего всемогущества и откровение Божьей любви не противоречат друг другу. Бог не нуждается в уничижении своего всесилия, чтобы открыть свою любовь. Напротив, именно всемогущество необходимо для того, чтобы полностью отдать и раздарить себя; и именно всемогущество необходимо для того, чтобы взять обратно в дар самого себя и сохранить независимость и свободу получателя. Только всемогущая любовь может полностью отдать себя другому и быть бессильной любовью. «Поэтому всемогущество Бога есть Его благость. Ведь благость означает полную отдачу, но таким образом, что дающий постепенно отступает назад, делая получателя независимым… Непостижимо, что всемогущество может произвести не только самое внушительное — видимую миру целостность, но и самое хрупкое — независимое перед лицом всемогущества существо»[779].
Здесь мы достигли решающего момента: самоуничижение Бога, Его бессилие и страдание не являются выражением ни недостатка, как у конечных существ, ни роковой необходимости. Если Бог страдает, то Он страдает Божественным образом, m е. Его страдание представляет собой выражение Его свободы; не страдание постигает Бога, а Он в акте свободы позволяет страданию постигнуть Его. Он страдает не как творения, из недостатка в бытии, а из любви и от своей любви, которая есть избыток Его бытия. Говорить, что Бог становится, страдает, движется не означает превращать Его в становящегося Бога, который лишь посредством становления достигает полноты своего бытия; такой переход от потенции к акту у Бога исключен. Говорить, что Бог испытывает становление, страдает, движется означает постигать Бога как полноту бытия, как чистую актуальность, как избыток жизни и любви. Поскольку Бог есть всемогущество любви, Он может, так сказать, позволить себе бессилие любви; Он может разделить страдание и умирание, не погибнув при этом. Только так Он может спасти нашу смерть своей смертью. В этом смысле действительны слова Августина: «Убитый смертью, Он убил смерть»[780]. «Mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit» («Умерев, разрушил нашу смерть и, воскреснув, восстановил жизнь», префация Пасхи). Так, Бог на кресте являет себя свободным в любви и свободой в любви[781].