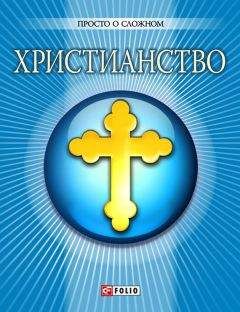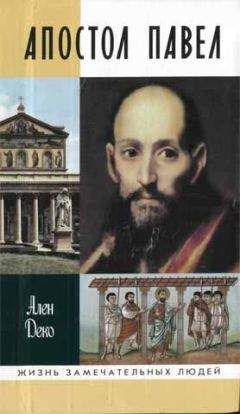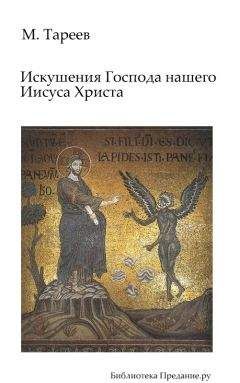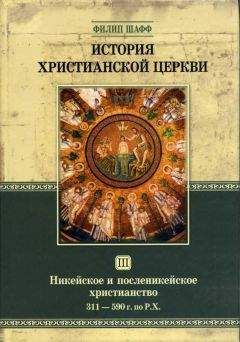Павел Евдокимов - Этапы духовной жизни. От отцов-пустынников до наших дней
Сегодняшняя наука уже не сводит высшее к низшему, но признает ступенчатые структуры, уровни, различные планы. Когда же феноменология склоняется к утверждению непрерывности всех этих планов, смешанных и сводимых один к другому, когда она утверждает “это то-то и только оно”, то выходит за рамки описательного метода и переходит уже к онтологии чистой случайности и закрытого в своей завершенности мира. Радикальное же различие порядков в паскалевском смысле слова[17] остается непоколебимой очевидностью. Материализм не может в понятии материи найти достаточной причины для отрицания Бога и трансцендентного, но и обратное не менее верно: не на материи и верующий основывает свою веру в Бога. Высшее – иной природы, оно радикально нередуцируемо, а потому ни один научный метод, даже материализм, не может себя ему противопоставить и оставляет, таким образом, метафизический план совершенно открытым.
Настоящая наука достаточно трезво и честно оценивает себя и открыто признает, что она лишь гипотеза, дающая удовлетворительную интерпретацию известным фактам, причем интерпретацию временную, постоянно пересматриваемую. Научный рационализм, исходящий лишь из имманентных процессов, никогда не бывает ни достаточным, ни окончательным, у ученого-атеиста к обычным возражениям против религиозной веры всегда примешиваются эмоции; пресловутая “объективность” ученого – миф, у него есть свои человеческие реакции, и его позиция может свестись к простому агностицизму. Наука совершенно не влияет ни на доводы сердца, ни на метафизический выбор.
Ученого же такого класса, как Эйнштейн, изучение жизни наводит на неизбежную мысль о порядке. “В науке я никогда не встречал чего-либо, что я мог бы противопоставить религии”, – говорил он. Настоящая наука смиренна, она знает, что всякое ее объяснение лишь отодвигает действительную трудность. “Самая большая тайна заключается в самой возможности существования хоть толики науки”[18]. Сама наука в целом – великая тайна. “Величайшее чувство, которое мы можем испытывать, это чувство мистическое. Вот зародыш всякой подлинной науки”[19]. Лавелль говорит о “тотальном присутствии”[20], побуждающем к молитвенному отношению, и у Рене ле Сенна философское размышление переходит в молитву[21].
Пресловутый присущий ученым атеизм ex officio окончательно вышел из моды. Разум, чем более он научен, тем более противится абсурду и полагает в мире наличие смысла, даже если и не может научно его сформулировать. Сохраняя глубокое уважение к тайне, он передает эту задачу в другую компетенцию; приведем еще раз слова Эйнштейна: “Самая непостижимая вещь в мире – это то, что мир можно постигать”. То, чем разум овладевает, никогда и не могло бы быть Богом, самое большее – отпечатком Его славы, сверкающим следом Его Премудрости. Разум может лишь обнаружить невещественные составляющие тайны, но не может объяснить их. Где ресурсы разума исчерпаны и в самое сердце бытия пущена его последняя стрела – миф, там высвечивается тайна[22], которая, не позволяя постичь своего существа, может возбудить предчувствие чего-то необычайно важного. Тайна не есть то, что мы вмещаем, но то, что вмещает нас.
Что касается экзистенциальной философии, то она представляется скорее ностальгической, нежели агрессивной. Ее пессимизм вылядит хорошо продуманным. Один из афоризмов Хайдеггера открывает долю мужественности в безнадежном отчаянии: “Человек есть бессильный бог”.
Все это, безусловно, восходит к Кьеркегору, к его неистовой реакции против гегельянской рационализации действительности. Панлогическая спекуляция не вносит строя в действительность, не приносит спасения, поэтому гений Кьеркегора и концентрирует свою мысль, очень индивидуальную и максимально конкретную, на вопросе религиозном: что я должен сделать из самого себя, иными словами: как мне спастись? Предпринятый им опыт самопознания – один из самых проницательных, он предвосхищает глубинную психологию. В тайниках души он открывает страх и априорное чувство вины, которые как бы расщепляют человека и вселяют в него ад, – именно в этих глубинах зарождается жажда спасения. Единственная альтернатива ставит человека перед выбором между ничто и абсолютом и предлагает ему подвиг веры, созерцающей Христа, сделавшегося современником всякой души; ускользнуть же в идеалистическую метафизику – значит, напротив, скрыться от суда Божия.
Человеческий разум может работать лишь между началом и концом, ведь только между ними он и расположен, вот почему эта промежуточная сфера имманентного не имеет онтологического основания. Только страх перед ничто может заставить имманентность прорваться и вывести к “совершенно иному” религиозного опыта. И поскольку оно “иное”, оно требует распинания рационального ума и призывает к “распятому суждению”. Случай с Авраамом иллюстрирует трансцендентность этики безумием Креста. С тех пор единственным подлинным доказательством Истины является мученик. Человек сам по себе – не более чем переход-пасха. Пасхальное же восстание – переход – превращает transitus в transcensus[23], здесь сама смерть обретает смысл как христианская; она более не непрошеная гостья, отныне она переживается как великое посвящение в тайну вечности.
Однако диалектическое богословие, богословие Креста еще не есть богословие Парусии – Бог Кьеркегора, как и Бог Карла Ясперса, остается Богом абсолютно трансцендентным. Человек здесь – не в Боге, и Бог – не в нем, человек находится лишь перед Богом, его не покидает трагическая жажда, ему еще не знакома тайна имманентности Бога и мистический брак всякой души с Богом. Кьеркегор не знал, что, сочетаясь с Региной Ольсен, его душа могла сочетаться со Христом.
Хайдеггер вновь обращается к формуле “Человек есть экзистирующее я”. Существование предшествует сущности, это значит, что человек создает самого себя, никакая сущность не определяет его участи, вплоть до того, что человек не имеет природы, но имеет Историю.
Брошенный в со-бытие с другими, постоянно находясь “в ситуации”, рядовой человек фатально не сопротивляется миру. Заботы, эта непреложная основа жизни, рассеивают его внимание, направляют его на “не-бытие” и затемняют бытие реальное; отчужденный от самого себя, человек теряет свое настоящее “я” и соскальзывает в анонимного и безличного “некто”, das Man. Построенный из забот мир иллюзорен, призрачен и обманчив, поскольку заботы заставляют забыть о реальном: о “я” и его свободе. Вот почему “я” – и в этом вся трагедия человека – действительно высвобождается только на фоне Ничто, этом грубом полотне, на которое проецируется неизбежный опыт смерти.
Одни только Ничто и Свобода не обусловлены причинами и основаниями, неограниченны, а потому соотносимы и родственны. Действительно, единственное ограничение свободы – ничто, она обнаруживает свои границы только в чувстве смерти, по существу конкретном, личном, неизбежном. Только такое трансцендирование забот к смерти дарит опыт абсолютной свободы[24]. Более того – и это весьма существенно – сознание смерти вызывает решимость реализовать все свои возможности свободы и принять на себя, таким образом, полную ответственность за “я” перед лицом своей судьбы.
Метафизическое чувство, порождаемое страхом смерти, дает опыт конечности временного бытия, но обнажает и то, что оно, будучи основанным на заботах, есть очевидное не-бытие. Становится понятным фундаментальный тезис Хайдеггера, сведенный к знаменитой формуле Freiheit zum Tode, свобода к смерти, – ее трагическое величие открывает человеку его “бытие к смерти”, Sein zum Tode.
Этическая задача заключается в том, чтобы трансцендировать мир забот в подвиг свободы, ответственной за судьбу. Она очевидно родственна стоической этике: бессильный смертный объявляет себя богом. Неответственный за свое вынужденное бытие, он принимает свою свободу суждений, и тем самым – свою участь, каков бы ни был конечный результат. Он накладывает на себя обязанность суждения, его свобода, таким образом, не совсем чистый произвол, однако он остается бессильным судьей по недостатку объективного критерия суждения – т. е. аксиологии ценностей по отношению к Абсолюту. Не это ли кающийся судья Камю?
Только крайний субъективизм, глубокий, серьезный и истинно трагичный, может обусловить подобное видение. Философия ничто – это богословие без Бога, место Бога отдано Ничто, а свойство Ничто – ничтожить. Однако этот безысходный тупик может оказаться спасительным. Никогда Хайдеггер не напишет второго тома Бытия и Времени – Sein und Zeit, – поскольку он уже отмечает, что его философия – не объяснение, но описание, не отрицание Бога, но некое Его ожидание…[25]