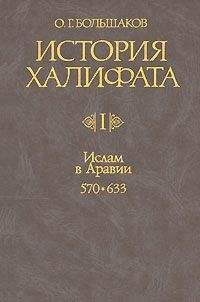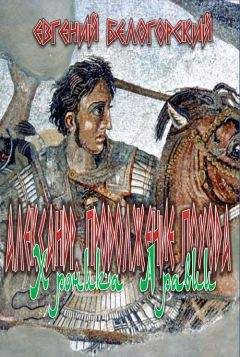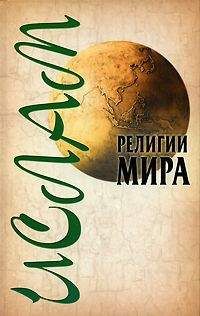Владимир Вейдле - Задача России
Старшим среди них был Кандинский: ему исполнилось пятьдесят четыре года. Малевичу было сорок лет. Татлину — тридцать три года. Певзнеру — тридцать два. Другие были моложе, всех моложе Пуни — двадцать четыре года. Певзнер и его брат Габо (тоже преподававший, хоть и без «кафедры», во ВХУТЕМАСе) прибыли из Норвегии в предыдущем году, их в России совсем не знали, да и Кандинский тут был менее известен, чем в Германии. Зато Малевич и Татлин выставляли с 1909 года и от изображения к неизображению стали переходить еще до войны, почти одновременно с Кандинским. Свой ставший позже (и не в России) знаменитым черный квадрат на белом фоне Малевич выставил в 1915-м, но написал раньше, по-видимому, еще в 1913 году. Теперь, в 1918-м, начертал он белый квадрат на белом фоне; то была «супрематистская композиция: белое на белом», и Родченко, прежде подражавший Малевичу, а теперь соперничавший с ним, тотчас ответил ему другой «композицией» — «черное на черном». Названия эти не следует понимать буквально: черное тут было не везде одинаковой густоты, и белый квадрат выделялся более чистой белизной на белом фоне. Но все же картиной такого рода художник не может не прощаться с живописью, и Малевич это вполне ясно осознал. На следующий год устроил он в Москве выставку «От импрессионизма к супрематизму», показал на ней 153 своих холста и объявил, что живопись этими именно холстами и кончается (недаром французское слово supreme означает сразу и «высший», и «последний»). Татлин (как за ним Родченко и ряд других, Лисицкий например) тоже от живописи отходил, но по иному пути: он заменял картину брусьями и другими «матерьялами», как это у него называлось, прибитыми к доске, или же стоящим на постаменте, со всех сторон обозреваемым «предметом». Это и называлось конструктивизмом или, одно время, объективизмом, изготовлением «объектов»; но так как «объект» или «предмет» может вполне быть чем-то применимым на практике, то почему бы к изготовлению таких практически полезных предметов и не перейти? Тем более, что в изделиях такого рода, печах, например, стала ощущаться острая нужда. Татлин и стал работать над проектом печки, которая при наименьшей затрате топлива давала бы наибольшее тепло. За этим последовала модель чайника, потом металлического стула… Но еще до стула наметились у него разногласия с теми, кто стал говорить: «Хорошо, но где же тут искусство?» Разногласия бывали и раньше. Бывали и кулачные бои — как еще в 1915 году, когда Малевич подрался с Татлиным из-за господства на выставке, в которой они участвовали оба. Стычки вызывались и распределением картин по музеям: Родченко собрался было посылать одну из скульптур Габо в Царевококшайск, то есть в отдаленнейшее захолустье, к большой обиде Габо, которому Кандинский об этом сообщил. Против самого Кандинского в Московском ИНХУКе (Институте художественной культуры), высшем органе идейного руководства искусством, учрежденном в мае 1920 года, через несколько месяцев уже сплотились все его сотрудники и при голосовании провалили его программу; Кандинский перебрался в Петербург, где при его участии СВОМАС превратился в Академию художественных наук; программу ее он разработал, но уже готовясь к окончательному отъезду. Малевич еще в 1919 году нагрянул чинно в Витебск, родной город Марка Шагала, в начале войны вернувшегося в Россию и теперь управлявшего Витебским художественным училищем, откуда Малевич его и выгнал, сел на его место и переименовал училище в УНОВИС (Училище Нового Искусства). Шагал был объявлен при этом художником отсталым и для революции непригодным; ему пришлось спасаться в Габиме (еврейском театре в Москве), где он и проработал еще два года, после чего уехал и он: обратно на Запад. К тому времени отъезды и вообще участились, а среди решительнейших революционеров стали уезжать приехавшие недавно. Раньше других они почувствовали, что окажутся скоро не удел, да и было им куда уезжать. К концу 1922 года Кандинский, Певзнер, Габо, а вслед за ними и Пуни оказались за границей. Другие остались, но все пошло так, как если бы уехали и они. Наступили другие времена. Революция в искусстве кончилась.
Если подводить ей итоги, то можно, хоть и покажется это странным, сказать, что не определяют их ни произведения этих художников, ни их теории. Сколько-нибудь членораздельны были только теории Кандинского, намеченные в Мюнхене, разработанные в ИНХУКе, но пригодившиеся ему для преподавания лишь в Баухаузе. В писаниях Малевича были разве что проблески мысли. В писаниях Родченко и проблесков не было. Что же касается произведений, то дарование живописцев проявили за эти годы (как проявляли его и раньше) в абстрактных своих полотнах Александра Экстер (перешедшая вскоре на театральную работу с режиссером Таировым), Надежда Удальцова и Любовь Попова (особенно вторая, обе они учились в Париже у Ле Фоконнье и Метценже); проявлял его, весьма ярко, в этих ранних своих работах Пуни. Татлин же и Малевич (у которого азарта было больше, чем таланта) перестали его проявлять. Вместе с теми, это к ним примкнул и о чьем даре судить достаточных оснований нет, они занялись другим: не живописью (или скульптурой), а экспериментами, как в то время и Кандинский, и Певзнер, и Габо. Эксперименты Малевича и Татлина ничего не дали ни живописи, ни скульптуре, да и ничего не хотели им давать, оттого что устремлены были к ликвидации той и другой. Но это не умаляет, а напротив, подчеркивает их значение в истории современного искусства, или в истории того, что происходит с искусством в наше время.
На Западе этих экспериментов не учли, да и очень немногие здесь вообще о них знали. Здесь и позже пытались, и сейчас еще пытаются заменить предметную живопись беспредметной, тогда как там за несколько лет сами «беспредметники» пришли к выводу, что беспредметная живопись отменяет живопись. Здесь в качестве новшества изготовляют с недавних пор трехмерные объекты; там это начали делать еще до первой войны, а в сентябре 1921 года Родченко, Степанова (его жена). Попова, Экстер и Александр Веснин устроили в Москве совместную выставку, называвшуюся «2x2 = 5», но тут же сообщили во всеуслышание о конце живописи – да и «объектов» как искусства ради искусства — и «предложили свои услуги народу» в качестве производственных работников. В ноябре того же года на собрании ИНХУКа собравшиеся объявили свою деятельность как «только живописцев» бесцельной, и к тому же времени Татлин, изготовив свою знаменитую модель Башни III Интернационала (произведения архитектуры, хоть и утопической), окончательно перешел (пусть и работая по временам для театра) от искусства к тому, чего иначе не назовешь, как техникой. Лично ему всего больше было по душе любительское изобретательство: он тридцать лет проработал над конструкцией аппарата, окрещенного им «Летатлин», но который в воздух так и не поднялся. Остальной «авангард» спасения от нахлобучек или чего похуже, да и пропитания стал искать в личных формах industrial design. Родченко и Степанов занялись типографским делом — ему ведь и художество не чуждо; Лисицкий – тем же и эфемерной архитектурой: специализировался на постройке советских павильонов для международных выставок. Один Малевич так и остался не у дел. От своих принципов — осуждения живописи, «напоминающей о живом» и несвободной от «остова вещей» — публично не отказался, но частным образом, в конце жизни, писал, говорят, портреты членов своей семьи. Умер он (Татлин его пережил на 18 лет) в 1935 году и похоронен был в гробу, который заранее расписал «супрематистскими» узорами.
Дальнейшие десятилетия
Насчет спасения и впрямь приходилось хлопотать: наступали времена крутые. Не только для революции в искусстве, но и для искусства вообще (да и для революции, в понимании первых ее энтузиастов). Над Свободными Мастерскими и всем прочим, в том же роде, скопилась гроза; недаром и ВХУТЕМАС сделался вскоре ВХУТЕИНом, то есть Институтом с кем-то властью облеченным во главе, а СВОМАС — Академией, чем он и был от Екатерины II до Луначарского со Штеренбергом. Попал впросак даже Пролеткульт, старейшее партийное высокого полета учреждение, годами существовавшее еще до захвата партией власти. Там считали, что пролетариат призван создать совершенно новую антибуржуазную культуру, а значит, и распрощаться решительным образом с мещанскими вкусами и с мещанским пониманием искусства. Но когда в «Правде» 27 сентября 1922 года один из руководителей этого учреждения В. Плетнев заявил: «Изобразительное искусство нового мира будет производственным искусством или его не будет вовсе», то получил головомойку не от кого другого, как от Ленина, который рассуждения его назвал «фальсификацией исторического материализма». А когда, около того же времени, открылась выставка Нового Общества Живописцев (НОЖ), молодых беспредметников, наскоро забивших отбой и задумавших вернуться к нарочитому дикарству (парижские fauves плюс русский лубок) «Бубнового валета», Ларионова, Гончаровой (так и не вернувшихся из Парижа после войны) и тогдашнего Малевича, то их строго призвали к порядку; этот «культ примитива» тотчас и раз навсегда был осужден, Павел Филонов (1883— 1943), единственный русский квазисюрреалист, художник весьма своеобразный и даровитый, воспользовался было (немного позже) этом запретом как беспредметного, так и добеспредметного (упрощающего предмет) искусства, и открыл в Ленинграде в 1925 году студию «аналитической живописи», имевшую немалый успех. Но три года спустя все частные художественные группировки и училища были запрещены; живопись же Филонова и по сей день предписывается считать «уродливой».