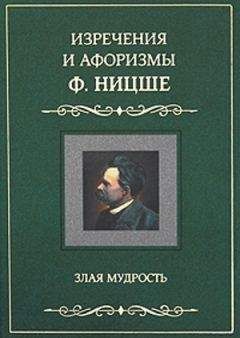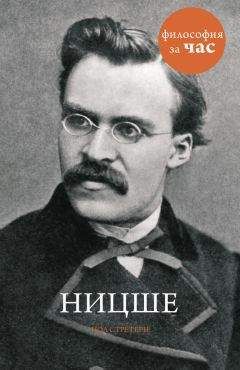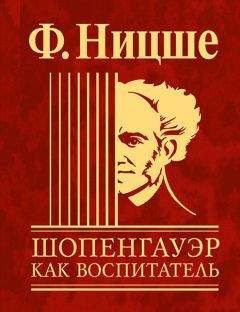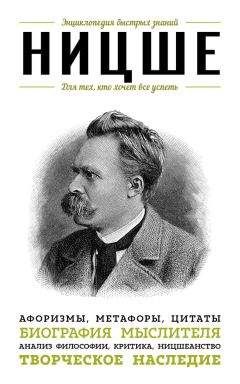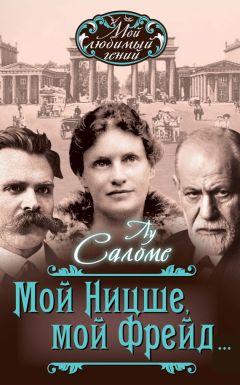Фридрих Ницше - Сумерки богов
Когда пациент преодолевает авторитарные реакции на вину или перестает отрицать существование моральных проблем, мы наблюдаем новую реакцию, очень похожую на ту, которая характерна для гуманистического религиозного опыта. Роль аналитика в этом процессе весьма незначительна. Он может задавать вопросы, мешающие пациенту отстаивать свое одиночество и спасаться в жалости к себе или любыми другими способами. Он может ободрять пациента и придавать ему смелости, как прибавляет смелости присутствие любого симпатизирующего человеческого существа тому, кто чувствует страх. И он может помогать пациенту, проясняя определенные связи и переводя символический язык снов на язык нашей бодрствующей жизни. Но аналитик, как и любой другой человек, не может заменить пациенту происходящего в нем самом трудного процесса ощущения, чувства, восприятия того, что имеется в его душе. По сути дела, душевное искание может осуществляться и без аналитика, его может совершать любой человек, уверенный в собственных силах и готовый к боли. Большинству из нас удается проснуться в определенное время утром, если мы твердо решили накануне, что хотим проснуться именно в это время. Пробудиться в том смысле, чтобы увидеть ранее сокрытое, труднее, но и этого можно достичь, если всерьез того пожелать. Ясно одно. Не существует книжных рецептов правильной жизни или счастья. Если мы научились внимать голосу совести и реагировать на него, это приводит не к удобному и убаюкивающему умственному или «душевному» покою, не к пассивному состоянию безмятежности и удовлетворения, но — к миру с собственной совестью и к постоянной чувствительности и готовности откликнуться на ее голос.
Я пытался показать в этой главе, что психоаналитическое врачевание души нацелено на то, чтобы помочь пациенту в достижении установки, которую можно назвать религиозной, в гуманистическом, а не авторитарном смысле слова. Психоаналитик стремится наделить человека способностью видеть истину, любить, быть свободным и ответственным, чувствительным к голосу совести. Но не описываю ли я здесь, спросит читатель, отношение, которое правильнее было бы назвать этическим, а не религиозным? Не упускаю ли я то, что как раз и отличает религиозное от этического? Думаю, что различие религиозного и этического в значительной степени, хотя и не полностью, носит чисто эпистемологический характер. Видимо, имеется фактор, общий для некоторых видов религиозного опыта, который выходит за границы этического[94]. Но чрезвычайно трудно, если вообще возможно, его сформулировать. Только те, кто испытал этот религиозный опыт, поймут формулировку, но они-то как раз в формулировках и не нуждаются. Эта трудность серьезнее, но по типу она не слишком отличается от проблемы выражения любого чувственного опыта в словесных символах; и мне хочется разъяснить, что я имею в виду под этим специфически религиозным опытом и каково его отношение к психоаналитическому процессу.
Один из аспектов религиозного опыта — удивление, изумление, осознание жизни и собственного существования, загадка человеческого отношения к миру. Существование — мое собственное и других людей — не что-то само собою разумеющееся, это проблема; не ответ, но вопрос. Утверждение Сократа, что удивление есть начало всей мудрости, истинно не только в отношении мудрости, но и в отношении религиозного опыта. Тот, кто никогда не поражался, не смотрел на жизнь и собственное существование как на феномены, требующие ответов, — при этом, что парадоксально, единственными возможными ответами являются лишь новые вопросы, — вряд ли поймет, что такое религиозный опыт.
Еще одна черта религиозного опыта — то, что Пауль Тиллих{115} назвал «крайней заботой». Это не страстная забота о выполнении желаний; она связана скорее с удивлением — крайняя озабоченность смыслом жизни, самоосуществлением человека, выполнением задачи, которую ставит перед ним жизнь. Эта крайняя забота отодвигает на второй план все желания и цели, не способствующие благосостоянию души и осуществлению Я; в сущности, они оказываются незначимыми по сравнению с целями этой крайней заботы. Она с необходимостью исключает разделение священного и мирского, потому что мирское подчинено ей и формируется с ее помощью.
Кроме удивления и заботы в религиозном опыте имеется третий элемент, о котором яснее всего писали мистики. Это — единство, не только с собой и не только с другими, но со всей жизнью и, более того, со Вселенной. Некоторые сочтут, что это отношение, в котором отрицаются уникальность и индивидуальность Я, умаляется опыт самости. Парадоксальная природа данного отношения в том, что оно включает одновременно острое, даже болезненное осознание своего Я как отдельной и уникальной сущности и стремление вырваться за границы этой индивидуальной организации, быть единым со Всем. Религиозная установка в этом смысле есть одновременно и наиболее полный опыт индивидуальности, и его противоположность: это не смесь того и другого, но полярности; из напряжения между ними и возникает религиозный опыт. Это гордость, цельность и в то же время смиренность, вырастающая из переживания себя как всего лишь нити в ткани универсума.
Связан ли этот вид религиозного опыта с психоаналитическим процессом?
Я уже говорил, что последний предполагает крайнюю заботу. Столь же верно то, что он стремится пробудить в пациенте чувство удивления и вопрошания. Если это чувство разбужено, пациент найдет ответы самостоятельно. Если его нет, никакой ответ, данный психоаналитиком, пусть самый лучший и истинный, не принесет пользы. Удивление — самый важный терапевтический фактор в анализе. Пациент обычно считает свои реакции, желания и беспокойства чем-то само собой разумеющимся, интерпретирует свои беды как результат чужих действий, неудачи, склада своей личности и т. п. Поэтому эффект достигается не тем, что пациент усваивает новые теории о причинах своего несчастья; он овладевает способностью удивляться по-настоящему; он изумляется, открывая в себе вещи, о существовании которых и не подозревал.
Преодоление границ своего организованного Я — Эго — и соприкосновение с исключенной, отделенной частью самости — бессознательным тесно связаны с религиозным опытом преодоления индивидуации и чувством единства со Всем. Понятие бессознательного, однако, как я его здесь употребляю, отличается от его фрейдовского или юнговского вариантов.
По Фрейду, бессознательное — в основном то в нас, что дурно, подавлено — то, что несовместимо с требованиями нашей культуры и нашего высшего Я. В системе Юнга бессознательное становится источником откровения, символом того, что на религиозном языке есть сам бог. С его точки зрения, уже тот факт, что мы подчинены диктату бессознательного, есть религиозный феномен. Думаю, что обе концепции бессознательного суть односторонние искажения истины. Наше бессознательное — то есть та часть самости, которая исключена из организованного Эго, которое мы отождествляем с нашим Я, — содержит и низшее и высшее, и худшее и лучшее. Мы должны подходить к бессознательному не как к богу, которому следует поклоняться, и не как к дракону, которого следует убить, но со смирением, с глубоким чувством юмора; видеть эту другую часть нас самих такой, как она есть, без ужаса, но и без благоговения. Мы обнаруживаем в себе желания, страхи, идеи, мысли, которые были исключены из нашей сознательной организации и которые мы видели в других, но не в себе. Верно, что мы можем реализовать только ограниченную часть всех заключенных в нас возможностей. Многие другие мы должны исключить, поскольку без такого исключения не смогли бы прожить нашу короткую и ограниченную жизнь. Но вне пределов конкретной организации Эго существуют все человеческие способности, фактически вся в целом человечность. Когда мы соприкасаемся с этой отделенной частью, мы сохраняем индивидуацию структуры нашего Эго, но воспринимаем это уникальное и индивидуализированное Эго только как одну из бесконечного числа версий; подобно этому, капля отличается от всех других капель и все же похожа на них, являясь частным модусом одного океана.
Входя в соприкосновение с этим отдельно существующим миром бессознательного, мы заменяем принцип подавления принципом проникновения и интеграции. Подавление есть акт силы, отсечения, «закона и порядка». Оно разрушает связь между нашим Эго и неорганизованной жизнью, из которой Эго возникает, и делает наше Я чем-то законченным, неразвивающимся и мертвым. Отказываясь от подавления, мы позволяем себе ощутить процесс живого, поверить в жизнь, а не в порядок.
Нельзя закончить обсуждение религиозной функции психоанализа — каким бы неполным оно ни было, — не упомянув об очень важном моменте. Я имею в виду одно из наиболее частых и серьезных возражений против метода Фрейда, а именно что отдельному человеку уделяется при его применении слишком много времени и сил. Думаю, что нет лучшего свидетельства гения Фрейда, чем его совет не торопиться, помогая человеку достичь свободы и счастья. Просвещение, увенчав гуманистическое направление в западной цивилизации, подчеркнуло достоинство и уникальность индивида как высшую ценность. Но интеллектуальная атмосфера в наше время уже не та, что прежде. Мы склонны мыслить в терминах массового производства и технических нововведений, и, пока речь идет о товарах, это приемлемо. Но перенесенные на проблему человека и в область психиатрии идеи массового производства и поклонения технике разрушают само основание, которое делает производство вещей — лучших по своему качеству и в большем количестве — в принципе осмысленным.