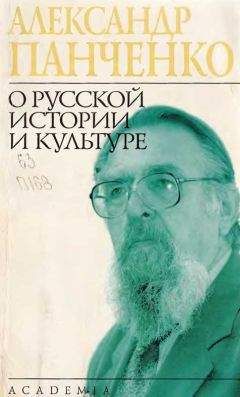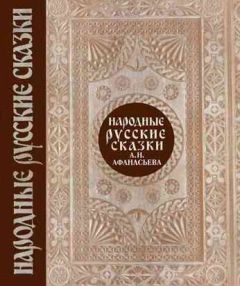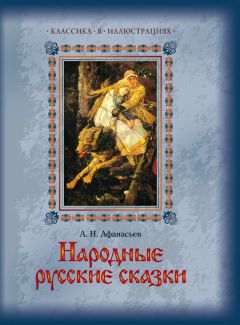Александр Эткинд - Хлыст
Современных символистов ругают, не желая заметить их преемственной связи с предшественниками. Несчастный символист остается «нагишом», и его старательно хлещут по голому телу […] Критикуйте его, относитесь к нему отрицательно, но, по крайней мере, знайте, с кем вы имеете дело, поймите, что это не случайная модная декадентщина[504].
Итак, Жирмунский нашел для русского символизма респектабельную генеалогию, одел «несчастного символиста» в немецкое платье. Конечно, умолчание в той части, которая касалась «мистического предания, идущего чисто национальным путем», было «своевременно и необходимо».
Для русской культуры часто оказывалось более естественным или желательным возводить генеалогию культурного феномена к западным прототипам, чем прослеживать его преемственность от отечественных корней. Юрий Лотман и Борис Успенский назвали подобное явление «культурной травестией». По их наблюдениям, своя культура в России часто выводилась за пределы культуры и вовсе не считалась искусством, религией и т. д.; чужие же — как правило, западные — формы получали значение культурной нормы[505]. Благодаря таким переодеваниям или переименованиям, культурные феномены не лишались своеобразия, которое они приобрели в силу естественного процесса культурного наследования; но осознание их характера самими создателями и носителями культуры могло существенно искажаться. Петр Великий побрил и переодел русских бояр, но у него не было сил или желания для того, чтобы сломать преемственность более глубоких форм жизни. Примерно таким же способом теоретики символизма стремились представить его практиков русскими европейцами; но те одновременно продолжали и отечественную традицию.
В докладе 1919 года О иудаизме у Гейне сам Блок ссылался на Жирмунского, чтобы подтвердить собственную историю символизма[506]. Согласно Блоку, русский символизм похож на французский только своим греческим названием. На самом деле, он является наследником великой арийской, или гностической, традиции. Начавшись с Веданты и Платона, она передалась немецким романтикам и от них русским символистам. Арийский мистицизм на протяжении всей истории культуры противостоял иудейскому рационализму. Уже применительно к Блоку эти аргументы повторял Корней Чуковский, для которого Блок был «мистиком германского склада души»[507]. Такого рода националистическая генеалогия еще не раз будет варьироваться блоковедами.
Между тем Жирмунский вскоре модифицировал свою теоретическую позицию. В книге Религиозное отречение в истории романтизма, вышедшей в 1919 году, он уже не выстраивал последовательной линии преемственности между немецким романтизмом и русским символизмом, а говорил о типологических параллелях между ними. Одновременно он усложнил и динамизировал свое понимание немецкого романтизма. Теперь он соглашался с его интерпретацией как особого рода поэтической Контр-Реформации: «проявления бессознательной „тоски“ протестантских поэтов по своей покинутой „родине“ — католической церкви». Соединяя историческое знание с опытом своего поколения, Жирмунский писал:
Каждый раз на вершине мистической волны мы встречаем великие вдохновение и ожидание, направленные на близкое будущее, — как бы чаяния религиозного откровения […] И каждый раз в конце движения совершается возвращение к исторической церкви […] и тяжелое, болезненно трудное отречение от оптимистических верований и надежд […] При этом проблема зла, ощущение реального присутствия в жизни греха, страдания и смерти везде является нам, как основная причина этого перелома[508].
Мы легко понимаем, что означают в книге 1919 года «проблема зла» и «великое ожидание»; но опять остается недоговоренным, какому явлению в России соответствовало «каждый раз» наблюдавшееся Жирмунским возвратное движение от социально-напряженной мистики к «исторической церкви».
ШКЛОВСКИЙВ статье 1916 года О поэзии и заумном языке, одной из первых своих работ, Виктор Шкловский давал теоретическое описание новой русской поэзии и подыскивал для нее достойную культурную модель.
Какие-то мысли без слов томятся в душе поэта и не могут высветлиться ни в образ, ни в понятие […] Перед нами признание и томление словотворцев перед созданием словесного произведения […] Слова, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово музыка, как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае еще не слова[509].
Свою интуицию «томления стихотворцев» Шкловский иллюстрирует обильными цитатами из мировой и русской литературы; но задача статьи — объяснить футуристические эксперименты Крученых и Хлебникова с заумными стихами. Это не чепуха, но и не музыка, объясняет Шкловский; это настоящая поэзия, только более чистая[510]. Внутреннюю реальность несловесной звукоречи надо как-то описать; Шкловский ссылается здесь на психологию эмоций Уильяма Джемса, не вполне очевидный источник концепций формальной школы. И дальше теоретик делает вполне неожиданный ход, дающий его рассуждениям историческое измерение.
Как мы уже заметили, заумный язык редко является в своем чистом виде. Но есть и исключения. Таким исключением является заумный язык у мистических сектантов. Здесь делу способствовало то, что сектанты отождествили заумный язык с глоссолалией — с […] даром говорить на иностранных языках. […] Благодаря этому заумного языка не стыдились, им гордились и даже записывали его образцы. […] Явление языкоговорения чрезвычайно распространено, и можно сказать, что для мистических сект оно всемирно[511].
Шкловский ссылается здесь на «прекрасную книгу» Дмитрия Коновалова Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве и обильно цитирует взятые из нее примеры — бессмысленные стихи хлыстов Сергея Осипова и Варлаама Шишкова, а также некоторых протестантских мистиков. Отдельно Шкловский цитирует еще один пример из хлыстовской поэзии, «отысканный мною в книге Мельникова-Печерского На горах […] Этот пример глоссолалии интересен тем, что он доказывает близкое родство детских песенок с образцами языкоговорения сектантов». Все это указывает на серьезное увлечение лидера ОПОЯЗа найденным им способом понимания новейшей поэзии[512]. И действительно, Шкловский готов идти далеко.
Во всех этих образцах общее одно: эти звуки хотят быть речью. Авторы их так и считают их каким-то чужим языком […] чаще всего — иерусалимским. Интересно, что и футуристы — авторы заумных стихотворений — уверяли, что они постигли все языки в одну минуту и даже пытались писать по-еврейски. Мне кажется, что в этом была доля искренности и что они секундами сами верили, что из-под их пера выльются чудесно-познанные слова чужого языка.
Для нашей темы важно, что один из первых текстов формальной школы основывался на материале взаимосвязей между профессиональной и даже элитарной литературой, с одной стороны, и записями религиозных песнопений русских хлыстов, с другой стороны. Шкловский заявляет едва ли не о тождестве между старыми опытами хлыстов и новыми опытами футуристов. Из этого наблюдения (описанного им в первый и, кажется, в последний раз) следуют теоретические выводы, вполне соответствующие значению этой статьи, одного из ранних манифестов нового метода. Во-первых, «кажется уже ясным, что нельзя назвать ни поэзию явлением языка, ни язык — явлением поэзии». К такой анти-соссюрианской формуле, которая звучит вполне современно так много лет спустя, привело Шкловского изучение его необычного материала — Хлебникова и Коновалова, Джемса и хлыстовской поэзии. Другой вывод этой статьи более ортодоксален; но и он, в применении к материалу, ведет к последствиям вполне неожиданным.
Религиозный экстаз уже предвещал о появлении новых форм. История литературы состоит в том, что поэты канонизируют и вводят в нее те новые формы, которые уже давно были достоянием общего поэтического языкового мышления[513].
Канонизация низких жанров — одна из основных идей раннего Шкловского. Так он понимал Блока, считая его стихи канонизацией цыганского романса, и Розанова, считая его прозу канонизацией газетного фельетона. На деле этот механизм имел мало общего с другими идеями формальной школы, которая здесь делала уступку социологическому методу и еще — популистскому представлению об определяющей ценности народного опыта[514]. Критики предыдущего поколения не упускали возможности сказать о том, что художественные ценности создает народ, а писатели у него подсматривают и подслушивают. В работах теоретиков народничества, например у Иосифа Каблица (Юзова)[515], это представление подносилась публике в нормативной форме, как единственно возможное условие подлинного искусства.