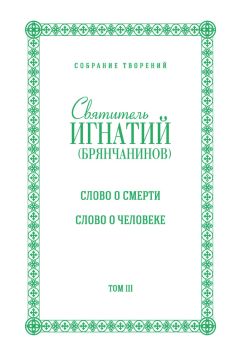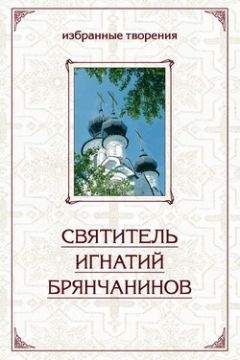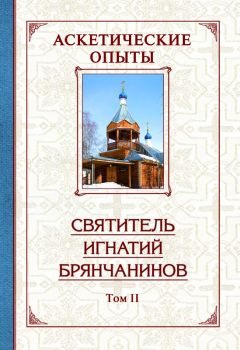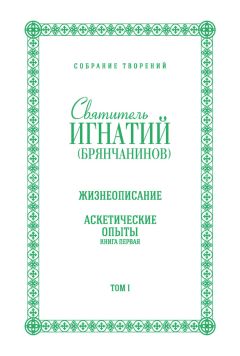Владимир Чугунов - Авва. Очерки о святых и подвижниках благочестия
Однако именно на этих путях, общественного и государственного самоопределения, меня ждали наибольшие трудности и искушения, особенно в отношении к священной царской власти. Здесь я сразу и всецело стал на сторону революции с её борьбой против «царизма» и «самодержавия». Это явилось совершенно естественным, что с утратой религиозной веры идея священной царской власти с особым почитанием помазанника Божия для меня испарилась, и хуже того, получила отвратительный, невыносимый привкус казёнщины, лицемерия, раболепства. Я возненавидел её, в единомыслии со всею русскою революцией, и постольку разделяю с нею и весь грех её перед Россией. Однако грех этот состоит не столько в свободолюбии и в этом смысле революционности, сколько в нигилизме и историческом своеволии, в последнем счёте, самочинии с отсутствием чувства меры. Во всяком случае, вся гамма монархических чувств, если и была когда-нибудь хотя бы в малой степени мне знакома, быстро во мне испарилась. Я ещё помню из отрочества, как я десятилетним мальчиком горестно переживал убийство Александра II, со всей трогательностью этой кончины, ещё усиливавшейся обликом Царя-освободителя. Однако этот облик был совершенно вытеснен из памяти сердца политическим обликом его преемника и всем общим характером царствования Александра III. Этот режим я переживал с дней юности своей со всей непримиримостью, и вся связь «православия с самодержавием», как она тогда проявлялась, была для меня великим и непреодолимым соблазном не только политическим, но и религиозным. В таком же настроении встречено было мною и вступление на престол его преемника, с речью о «бессмысленных (беспочвенных) мечтаниях» (о конституции).
Лишь с началом революции, а вместе с нею всей русской катастрофы, с 1905 года, я стал преодолевать революционные искушения. Вспоминаю следующий символический жест: 18 октября 1905 г. в Киеве я вышел из Политехникума с толпой студентов праздновать торжество свободы, имея в петлице красную тряпицу, как и многие, но, увидав и почувствовав происходящее, я бросил её в отхожее место. И мне открылось Евангелие со следующим текстом в ответ на моё немое вопрошание: «сей род изгоняется молитвой и постом», и однако также не в смысле измены свобод – повторяю, здесь я не могу и не хочу ничему изменять, но в отношении к идее священной власти, которая получила для меня характер политического апокалипсиса, запредельного метаисторического явления Царствия Христова на земле.
Эту свою тоску о «Белом Царе» и любовь к нему я выразил в диалоге «Ночь», написанном в 1918 году уже после падения царской власти.
Однажды всего на краткое мгновение мелькнуло предо мною её мистическое видение.
Это было при встрече Государя. Я влюбился тогда в образ Государя и с тех пор носил его в сердце, но это была – увы! – трагическая любовь: «белый царь» был в самом чёрном окружении, чрез которое он так и не мог прорваться до самого конца своего царствования.
Как трагично переживал я надвигающуюся революцию и отречение от престола, как я предвидел с самого этого дня всю трагическую судьбу и Государя, и его семейства!
Долгое время я бредил мыслью о личной встрече с Государем, в которой бы хотел выразить ему все царелюбивые, но и свободолюбивые свои идеи и молить его о спасении России. Но это был только мечтательный бред, которому не соответствовала никакая действительность. История уже сказала свой приговор. То был мой личный апокалипсис, – был и есть – но историческая и церковная действительность – увы! – были тогда страшны, но не «апокалиптичны», в смысле свершений, а только в смысле трагических путей своих, которыми и пошла через революцию в советчину, к дальнейшим, ещё неявленным и неразгаданным судьбам Россия.
Но возвращаюсь к своим собственным судьбам в «интеллигентщине».
Я оказался ею отравлен чрез такое привитие этого яда, которому я бессилен был оказать противодействие. Рок мой состоял в том, что в том возрасте, когда во мне пробудилась критическая мысль, я находился в среде некультурной или, лучше сказать, внекультурной, и это делало меня в известной степени беззащитным перед ядами интеллигентщины, но вместе и лишённым её благ и вообще культурного воспитания.
Я находился в известном смысле в состоянии первоначальной невинности, святого варварства.
Когда же столкнулся с ревизионным сомнением, которое порождалось во имя культуры и свободы, я оказался пред ним совершенно беззащитным, да и обнажённым. Иной культуры, кроме интеллигентской, в её довольно упрощённой форме политической революционности (даже ещё не социальной) я не знал. В этом отношении моя личная судьба в безбожии всё-таки отличается от судеб других моих спутников жизни, которые, происходя из культурной среды (Водовозов, Струве), могли быть и по-иному ответственны за своё мировоззрение.
Я оказался отрочески беспомощен перед неверием и в наивности мог считать (на фоне, конечно, и своего собственного отроческого самомнения), что оно есть единственно возможная и существующая форма мировоззрения для «умных» людей.
Мне нечего было противопоставить и тем защититься от нигилизма. При этом те, довольно примитивные, способы апологетики, вместе с неудовлетворявшими меня эстетическими формами, способны были содействовать этому переходу от православия к… нигилизму. Словом, он совершался как-то в кредит, умственно безболезненно, ребячески.
Вероятно, я сразу испугался твердыни нигилизма в его «научности», а вместе с тем сразу почувствовал себя польщённым тем, чтобы быть «умным» в собственных глазах.
В этом, повторяю, была своя правда и честность, искание истины, хотя и беспомощное и ребяческое.
Я сдал позиции веры не защищая.
Впрочем, моя вера и не была никогда ранее (да и не могла быть по моему возрасту) таким мировоззрением, которое допускало бы для себя и интеллектуальную защиту. Она была для меня жизнью, мироощущением гораздо больше, чем учением, хотя, конечно, св. Евангелие, некоторые жития святых (например, Марии Египетской) трогали сердце и исторгали из него сладкие звуки, но это было заглушено мефистофельским шипением нигилизма.
Дальше с раз принятой установкой оно стало уже само собой развиваться и укрепляться вместе с моим собственным развитием, умственным и научным, протекавшим притом в интеллигентской среде, которой не были свойственны религиозные переживания и вопрошания, но, напротив, религиозный нигилизм являлся само собою разумеющейся аксиомой мировоззрения.
Так продолжалось долгие годы, доколе не пришло время прорасти зерну моей собственной души, и этот росток властно проложил себе путь в чуждой и враждебной среде.
Сейчас мне самому является чем-то для себя уничижительным, а вместе и непонятным, как мог я так долго духовно спать или находиться в духовно обморочном состоянии. Этот период религиозной пустоты представляется мне сейчас самым тяжёлым временем моей жизни именно по своей религиозной бессознательности. Очевидно, мне предстояло изжить до дна всю пустоту интеллигентщины и нигилизма, со всей силой удариться об эту каменную стену, отчего почувствовалась, наконец, невыносимая боль.
Теперь, озирая свою жизнь уже из начала 8-го десятилетия, зная её долготу, я вижу, что темпы её свершений вообще были соразмерны этой продолжительности. Для того чтобы пережить данное духовное состояние в пропорциях долголетней жизни, очевидно соответствовала и большая замедленность духовных процессов, которая не соответствовала бы жизни более краткой.
Однако, если я воспринял нигилизм без боя, это не значило, чтобы я это пережил безболезненно. Совсем напротив, теперь я вижу, как я никогда не мирился с ним, нося его как платье с чужого плеча, доколе не найдено было мною собственное. Да и вообще это мой переход не от веры к неверию, но с одной своей веры к другой, чужой и пустой, но всё-таки вере, имеющей для себя свои собственные святыни. Эта верность вере, призвание к вере и жизнь по вере (если и греховная даже в отношении к ней, то во всяком случае судимая её собственным, имманентным судом) – есть основной факт моей жизни, который мне хотелось бы установить и утвердить именно пред лицом моего неверия.
Человек есть вообще верующее существо, призванное к вере и к жизни по вере. Но не все сознают это с равной степенью ясности. Для меня же это открылось с такой полной очевидностью именно потому, что имея, может быть, по левитству своему, особую призванность к вере, в свете её, загоревшемся во мне, и на протяжении всей жизни в вере, являюсь способен ощутить в себе и оценить во всей силе этот основной факт веры и неверия, познать как особый образ или разновидность веры. Такова была психология моего неверия.
Дважды я переживал потерю веры, как общий жизненный кризис, настолько, что однажды во мне раздались мысли о самоубийстве на религиозной почве, т. е. утрачивался и смысл жизни вместе с потерей веры. Этого не было в отрочестве в ранний период неверия, но проявилось с неожиданной и большой силой на грани юности. Бессознательное религиозное вдохновение подавалось мне даже в период безверия, веяние смерти, её благодать с откровением потустороннего мира. Наряду с этим, и самый характер моего неверия не был состоянием религиозной пустоты и индифферентизма, но вера в «прогресс» человечества. Она включала не только определённую этику, но и эсхатологию. Моё неверие было существенно эсхатологично. Оно знало свои восторги веры.