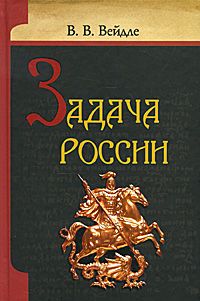Владимир Вейдле - Задача России
В этом он весь, но еще с двух сторон надо его уточнить. Во-первых, не о вовсе чужих и далеких народах мы думаем, когда его ставим, и не о родственниках, не о ближайших соседях; о Западе мыслим, о людях Запада, родных, но и чужих, о тех, что как будто и мы, а все же во многом не мы. Во-вторых, не о том идет речь, что могут они понять, полюбить как свое у писателей наших и, когда в совершенстве осилят язык — у поэтов. Речь идет о любви к тому русскому, что кажется им именно русским, а не своим, и что совсем не совпадает с тем хорошим или очень хорошим, с тем хорошим «вообще», что могут они, вслед за нами или независимо от нас, найти у наших писателей, поэтов, мыслителей, композиторов, художников. То русское, что любят нерусские (когда они его любят), может найтись и там, на высотах, но может сквозить — для них сквозить — и в самой будничной ткани русских обычаев, нравов, привычек, отражаемых литературой даже и не высокого полета, или непосредственно воспринятых, помимо всякого искусства, на улице подобранных, найденных в быту…
* * *
Бывал я нередко, в былые времена, у благоволившею мне, как и другим русским парижанам — Адамовичу, Фельзену — французского писателя, умершего накануне войны (критика, прежде всего), Шарля Дю Боса, человека широкого ума и открытой души. В литературе, в литературах (не одна французская была ему близка) прожил он жизнь. Необычайно любил Чехова. Прочел все, что было переведено, письма, мельчайшие пустячки. То, чего не было по-французски, прочел по-немецки или по-английски. Перечитывал неустанно, восхищался вновь и вновь. Многим у Чехова восхищаюсь и я, но долго не мог я понять ни причин, ни меры — безмерности даже — его восхищения. Постепенно, однако, из разговоров выяснилось, что не искусство Чехова его восхищало, а изображенная Чеховым — без всякого восхищения — русская жизнь. Не вся целиком и не в тех ее чертах, которые Чехов порицал или описывал с грустью, а в тех, которых он вовсе не силился «подмечать»: они сами собой включались в повествование, чье правдоподобие, однако, и впрямь было бы утрачено без них. Черты эти соответствовали, несомненно, характеру чеховского дарования, но были все же сами по себе просто-напросто чертами русской жизни, которые могла бы Дю Босу явить сама чеховская или дочеховская Россия и с которыми могли бы ознакомить его десятки других наших «беллетристов», весьма скромно одаренных и нынче давно забытых. Больше Чехова вот это, русское, полюбил он в Чехове.
Что же именно? Какие это черты? — Отсутствие или непризнание перегородок, твердых преград между людьми. Простота и сердечность — а если бессердечность, то столь же откровенная — отношений между ними. Прямота и безыскусственность чувств, задушевность разговоров. Недоверие и отвращение ко всему эффектному и показному, ко всякой позе и фразе. Несуровость насчет «слабостей» — чужих, а не только своих — и вообще готовность простить более прочная, чем готовность осудить. Это черты чеховских людей, но я думаю, все со мной согласятся, что это и черты очень широкого круга русских людей до Чехова, как и после Чехова, сохранившиеся до сих пор, как у русских за рубежом, как и у многих без сомнения, в нынешней России. Мундиры у нас — всех родов мундиры — расстегивались легко, и не любили у нас «в мундире» ничего, кроме картошки. О людях судили «по человечеству» больше, чем «по закону» или по каким бы то ни было готовым правилам — даже и в Петербурге, который по своей — не такой уж строгой — строгости, по весьма относительной чопорности своей казался не совсем Россией остальной России. Все это, в прибавку к безбрежности страны, создавало то чувство свободы – не правовой, но бытовой, — которое ощущали и западные люди, поселявшиеся у нас не на слишком короткий срок.
Однажды, лет тридцать назад, пожилой француз заговорил со мной в парижском кафе, увидев, что я читаю русскую газету. Только потому заговорил, что захотелось ему лишний раз высказать русскому свою любовь к России. Поехал он туда по каким-то делам, году в девятьсот восьмом, и прожил там два года. Выучился по-русски понимать, но не говорить: «Ведь у вас, в больших городах, и французский знают многие». Больше туда не ездил. Испытывал тоску. «Времена теперь не те. Один мой приятель, промышленник, прожил там четыре года, обзавелся небольшим предприятием. В двадцатых годах с немалым трудом получил визу, поехал… Нет, нет, по стране вашей соскучатся, на предприятие давно махнул рукой. Его выслали. Через год он имущество передал родне; тайно перешел границу. Так и пропал. Не было больше о нем вестей».
— Что же именно так пришлось по вкусу, ему и вам, у нас?
Объяснить это было нелегко. Он все же попытался. Позже я слышал похожее от немцев, итальянцев, англичан. Это сводилось ко все тем же «чеховским» чертам. Простота и свобода в отношениях между людьми. Участливость Теплота. Сказал бы он непременно и одно русское слово, если б его знал, — неверное, зыбкое слово, которое нынче с опаской приходится произносить: задушевность.
Вот и я, о чеховском говоря, — глянь! — не подумал, и выскользнуло оно у меня из-под пера. А ведь, Боже ты мой, как оно испошлилось, опустилось! Был ведь у нас в те самые годы, когда французы мои, буржуи мои, влюбились в Россию, журнал «Задушевное слово», расточавший задушевность свою «дорогим нашим деткам», как младшего, так равно и старшего возраста. Сам я в этом журнале о Мурзилке и друзьях его читал; в память этого журнала, должно быть, именно слова , разговоры русские задушевными и назвал. А нынче включи радио — и тотчас Москва заговорит таким приторным, таким «задушевным», ласковым этаким говорком — о чем угодно: об огурцах, как и о комсомольцах или космонавтах. Только все-таки в прежней нашей литературе, когда говорилось «простое задушевное слово», как — во время прощания — в тургеневском «Накануне» (где сказано, впрочем, что неуместно было бы при этой разлуке «всякое значительное, или умное, или просто задушевное слово»), когда велись у Николая Ростова с Наташей и Соней «задушевные разговоры в любимом углу», это еще не было чем-то ничего не значащим, лживым или напускным; золотом было, а не сусальной позолотой; и Левин в «Анне Карениной» не зря любовался Анной — «и красотой ее, и умом, и образованностью, и вместе простотой и задушевностью». У Пушкина слово «задушевный» только раз встречается, в раннем стихотворении, где значит то же самое, что «закадычный», а «задушевность» — тоже только раз, в письме об Анне Петровне Керн, написанном в ее присутствии и больше для нее, чем для приятеля (Плетнева), которому оно было послано. Говорится в письме о том, как «небесно» она пела «Венецианскую ночь» Козлова, «вдохновенного слепца». «Жаль, что он не увидит ее, — пишет Пушкин, — но пусть вообразит себе красоту и задушевность — но крайней мере, дай Бог ему ее слышать». Здесь «задушевность» относится, вероятно, к голосу, к манере петь, быть может, и к манере говорить, и присущей несколько другой (более чувственный) смысл, нежели у Тургенева и Толстого. Это их слово, больше, чем пушкинское; но только слово… Тому, что значит или значило это слово, нет лучшего примера, чем у Пушкина. Не знаю я ни на каком языке стихов столь задушевных, как эти:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Но по-русски есть и другие. Пушкинская эта музыка чувства у нас не заглохла. Есть, например, и у Блока два стихотворения, несравненно более скорбные, беспросветно скорбные, но такие же — иначе не скажешь — задушевные: «На улице — дождик и слякоть…», «Похоронят, зароют глубоко…», и конец еще одного:
Окак я был богат когда-то,
Да все — не стоит пятака:
Вражда, любовь, молва и злато,
А пуще — смертная тоска.
Вот, пожалуй, эта задушевность, не размениваемая на мелкую монету, иным из нерусских, выучившихся по-русски, что-то в нашем, во всегдашнем нашем, и приоткрывает, от чего нелегко им бывает оторваться. А нам? Нелегкой нам.
* * *
Конечно, не сквозь одни стихи приоткрывает; да и приоткрывает не она одна. Спросим себя, однако, с чем она, задушевность эта, несовместима, и сразу возвратит нас вопрос этот к Чехову, к Дю Босу, к собеседнику моему в парижском кафе и его другу, потому что подлинная, не опошленная «задушевность» — с чем же она несовместима, если не с накрахмаленностью, фразой, позой, с высокомерием, фарисейством, с отсутствием теплоты, искренности, простоты? Простота; прежде всего простота. Недаром у Тургенева, у Толстого, в цитатах, мною приведенных, где задушевность — там и простота. Искони расценивалась она у нас положительней, чем где-либо, а если отрицательно, в отношении простачков и простофиль, то со снисхождением, близким к умилению. Так мыслил и чувствовал у нас народ, «простой» народ; но простота и простонародность не то же самое, и не приклеены они одна к другой; даже в «опрощении» Толстого, барской, народнической затее, следует отличать осуждение барства и надежду найти простоту в крестьянстве от жажды простоты, самой по себе, где бы она ни была. С какой волшебной простотой говорит Пушкин о своей Татьяне: «Все тихо, просто было в ней»; и он же, в шутливом тоне, пишет жене: «Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос». Тут надо учесть, что простота манер и тона почти что была принадлежностью аристократического этикета и что Пушкин сквозь нее искал другой, менее внешней, в Татьяне воплощенной простоты; чем, однако, не устраняется тот факт, что и Наталья Николаевна, и Татьяна Дмитриевна владели крепостными и принадлежали обе к высшему сословию.