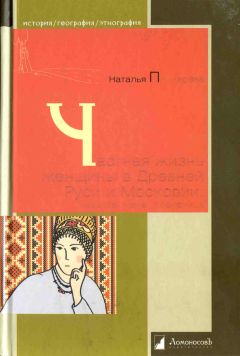Рене Жирар - Насилие и священное
Чтобы понять этот ритуал, нужно соотносить его не с сознательными или бессознательными психическими мотивациями. Вопреки видимости, он не имеет ничего общего с беспричинным садизмом; он направлен не к насилию, а к порядку и спокойствию. Он пытается воспроизвести лишь один тип насилия — тот, который насилие изгоняет. В сущности, нет ничего более наивного и бесплодного, чем спекуляции, на которые современному психологизму будто бы дает право жестокость такого обряда, как спарагмос.
«Вакханки» во всех пунктах подтверждают данное выше определение жертвоприношения. И мы уже предугадываем, что и вся гипотеза в целом, возводящая миф и ритуал к учредительному единодушию, получит в трагедии Еврипида и культе Диониса поразительное подтверждение.
* * *Не подготовленный, то есть не проникшийся духом Ницше и Рудольфа Отто читатель «Вакханок» всегда бывает поражен гнусным характером Диониса. На всем протяжении трагического действия бог ходит по городу, сея на своем пути насилие и провоцируя преступления с искусством дьявольского соблазнителя. Лишь мазохистское донкихотство мира, защищенного от фундаментального насилия настолько, насколько пока что от него защищен наш, могло найти что-то симпатичное в Дионисе «Вакханок». Еврипид, судя по всему, чужд таких иллюзий, которые были бы совершенно комичны, не будь они так опасны.
У этого бога нет сущности, помимо насилия. Все его атрибуты непосредственно с насилием связаны. Если Дионис связан с пророческим вдохновением, как Аполлон в Дельфах и в мифе об Эдипе, то причина этой связи в том, что пророческое вдохновение отсылает к жертвенному кризису. Если он является божеством винограда и вина, то в основе, несомненно, лежит смягчение изначального смысла, по которому он был богом более страшного опьянения, человекоубийственного бешенства. В древней дионисийской традиции нет ничего имеющего отношение к возделыванию винограда или изготовлению вина[42]. Единственная большая эпифания бога, перед финалом, сливается с самыми катастрофическими последствиями жертвенного кризиса, знаком которых служит разрушение дворца Пенфея:
Голос Диониса: Сотряси почву земли, могучий Землеврат!
Корифейка: Га! Тотчас распадутся чертоги Пенфея. Дионис во дворце! Поклоняйтесь ему!
Вакханки: Мы поклоняемся!
Корифейка: Смотрите, как пошатнулись каменные перекладины колонн! Это Бромий торжествует победу внутри дворца!
Голос Диониса: Зажги лучезарный светоч перуна! Воспламени, воспламени чертоги Пенфея!
Корифейка: Га! Видите, видите ли огонь, окруживший святую могилу Семелы? Это — то пламя Зевсовой молнии, которое она некогда оставила, сраженная перуном! Падите ниц, объятые трепетом! владыка наш, сын Зевса, появится среда нас, превратив в груду развалин эти хоромы
[585–600, пер. Ф. Ф. Зелинского].
Если Дионис — воплощение самого отвратительного насилия, то странно и даже скандально, что он служит предметом не только ужаса, но и преклонения. Наивны не те, кто этим озадачен, а те, кто этим не озадачен.
Если рассмотреть повнимательнее тип насилия, с которым связан этот бог, то возникнет цельная картина — и она очень точно соответствует выводам, к которым приводит убийство Пенфея, рассмотренное в связи с дионисийским жертвоприношением. Под именем Бромия («Шумный», «Содрогающий») Дионис ведает разрушительными силами, не имеющими ничего общего с грозами и землетрясениями, любезными сердцу мифологов прошлого века, но всегда, видимо, предполагающими присутствие толпы, которую безрассудный страх толкает на чрезвычайные, почти сверхъестественные действия. Тиресий определяет Диониса как божество панических движений, коллективных ужасов, поражающих внезапно:
Не раз выстроенное и вооруженное войско было рассеяно внезапным ужасом, прежде чем его коснулось копье врага; а ведь и это — бешенство, насылаемое Дионисом.
[300–305, пер. Ф. Ф. Зелинского]
Если сопоставить эти указания со всеми у нас уже имеющимися и со всей массой свидетельств от других ритуалов, то не остается никакого сомнения: Дионис — это бог успешного самосуда. И сразу становится ясно и почему здесь присутствует бог, и почему этому богу поклоняются. Законность бога узнается не потому, что он нарушает мир, а потому, что он сам восстанавливает нарушенный им мир, что его и оправдывает a posteriori за нарушение мира, — божественное действие вызвано законным гневом против кощунственной гибрис, которую — до учредительного насилия — от этого гнева ничто не отличает.
Собственно текстуальный анализ подтверждает те гипотезы, которые считают, что дионисийский культ возник вследствие огромных социальных и политических потрясений. За такими произведениями, как книга Эрвина Роде, стоит пусть неполная, но глубокая догадка о реальности. Разумеется, исторические аргументы сторонников такого рода гипотез спорны, но не менее спорны и аргументы их противников. В отсутствие новых свидетельств традиционный исторический метод обречен топтаться на месте. Только сравнительный анализ текстов и крупных религиозных феноменов — имеющийся, правда, у Роде, но еще в слишком ограниченной форме — может углубить наше понимание[43].
За мифом «Вакханок», отвлекаясь от всякого определенного исторического содержания, можно предположить и нужно постулировать внезапную вспышку насилия и страшную угрозу, какую она представляла для выживания общины. Угроза в конце концов уйдет так же быстро, как и появилась, благодаря самосуду, примиряющему всех, поскольку все в нем участвуют. Метаморфоза мирных граждан в бешеных зверей слишком жестока и мимолетна, чтобы община согласилась узнать в ней себя, чтобы она признала своим странное и ужасное лицо, мелькнувшее лишь на миг. Как только буря чудесным образом улеглась, в ней начинают видеть самое несомненное вмешательство божества. Недовольный тем, что неизвестен или неузнан, бог выразил людям свое неудовольствие подлинно божественным образом. Одобрив последнюю жертву, единственную, которую он действительно выбрал, в которой он, может быть, сам воплотился, он молча удаляется, столь же благосклонный при своем уходе, как был ужасен вблизи.
Таким образом, религия отнюдь не «бесполезна». Она расчеловечивает насилие — отнимая у человека его собственное насилие, чтобы его от этого насилия защитить, и превращая насилие в трансцендентную и всегда наличную угрозу, которую следует отражать как надлежащими ритуалами, так и скромным и разумным поведением. Религия действительно освобождает человечество, поскольку избавляет людей от подозрений, которые бы их отравили, если бы люди помнили кризис так, как он протекал в реальности.
Мыслить религиозно — значит мыслить судьбу города в зависимости от этого насилия, которое управляет человеком тем неумолимей, чем сильнее он верит, что сам им управляет. Следовательно, это значит мыслить такое насилие как сверхчеловеческое, чтобы держать его в отдалении, чтобы отречься от него. Когда испуганное поклонение слабеет, когда различия начинают стираться, ритуальные жертвоприношения теряют эффективность: они уже не угодны богам. Каждый хочет исправить ситуацию сам, но никому это не удается: истощение трансцендентности приводит к тому, что исчезает всякое различие между желанием спасти город и самым неумеренным властолюбием, между самой искренней набожностью и желанием самообожествления. В замысле соперника каждый усматривает покушение на святотатство. Именно в такой момент и стирается всякое различие между Дионисом и Пенфеем. Люди ссорятся из-за богов, и их скептицизм — то же самое, что и жертвенный кризис, который задним числом в свете нового единодушного насилия предстанет как новое вмешательство и новая месть божества.
Люди не смогли бы отделить свое насилие от самих себя в качестве отдельной, верховной и искупительной сущности, если бы не было жертвы отпущения, если бы само насилие в каком-то смысле не предоставляло им передышку, которая одновременно есть и новый старт, начало ритуального цикла после цикла насилия. Чтобы насилие наконец смолкло, чтобы раздалось и было сочтено божественным последнее слово насилия, секрет его эффективности должен оставаться нетронут, механизм единодушия должен оставаться неизвестен. Религия защищает людей, пока ее глубочайший фундамент остается скрыт. Если выманить чудовище из его последнего убежища, то можно разнуздать его раз и навсегда. Если рассеять неведение людей, то можно подвергнуть их большей опасности, лишить их защиты, которую составляет их непонимание, убрать единственный тормоз, которым снабжено человеческое насилие. Действительно, жертвенный кризис есть не что иное, как знание, растущее по мере того, как ожесточается взаимное насилие, но никогда не доходящее до всей истины в целом; именно эта истина о насилии, как и само насилие, в конце концов всегда и отторгается «вовне» путем изгнания жертвы. Трагическое произведение, уже по одному тому, что оно разрушает мифологическую семантику, открывает под ногами поэта бездну, от которой он всегда в конце концов отступает. Искушающая его гибрис опаснее, чем гибрис всех его персонажей; она затрагивает знание, которое — в контексте любой античной или первобытной религии, как и любой философской и современной мысли, — может быть если не понято, то угадано лишь как бесконечно разрушительное. Потому и существует запрет, под властью которого находимся и мы сами и который нисколько не нарушается современной мыслью. Тот факт, что у Еврипида этот запрет назван почти открыто, показывает, что в его трагедиях он подвергся небывалому расшатыванию: