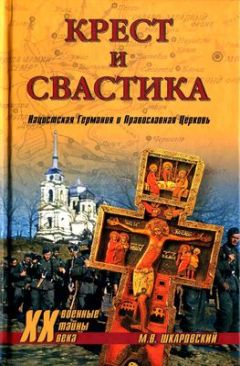Сергей Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)
Уникальность Религиозно-философских собраний заключалась прежде всего в том, что это были полемические встречи, на которых совместно духовными и светскими лицами обсуждались актуальные вопросы веры – в историческом, философском и общественном освещении. Беседы велись в духе терпимости. Однако эта терпимость не означала совпадения позиций сторон, что продемонстрировало обсуждение уже первого из прочитанных докладов – сообщения В. А. Тернавцева «Русская Церковь перед великой задачей». Докладчик постарался обрисовать тот круг вопросов, решение которых, по его мнению, было жизненно необходимо для Церкви, если она желала и дальше оказывать решающее влияние на жизнь русского общества. Главные тезисы В. А. Тернавцева можно свести к нескольким пунктам.
Во-первых, возрождение России возможно только на почве истинного христианства. Во-вторых, учащих сил русской Церкви для исполнения такой задачи недостаточно. В третьих, к началу XX столетия Церковь (ее священство) и интеллигенция находятся в глубоком разладе между собою, и отношения между ними есть не только отношения веры к неверию, истины ко лжи. В четвертых, налицо нравственный кризис интеллигенции, жажда веры, а также возможность обращения интеллигенции при условии действительного ответа на ее запросы. В пятых, нельзя умалять опасность «ложных сделок» Церкви с верой (вероятно, речь шла об обязанности духовенства доносить светскому начальству о противогосударственных злоумышлениях, если таковые становились известны после исповеди преступника). И, в шестых, единственное решение проблемы – это раскрытие со стороны Церкви сокровенной в ней «правды и о земле», а не только о небе, то есть учения о христианском государстве и религиозном призвании светской власти.
Думается, что с верностью этих мыслей никто из тогдашних богоискателей не стал бы спорить. Предметом полемики стали предлагаемые методы лечения указанных недугов, равно как и некоторые формулировки. Апокалиптическая напряженность доклада ставила В. А. Тернавцева в сложное (если даже не ложное) положение «социального пророка». Не случайно он начал выступление указанием на то, что внутреннее положение России представляется безысходным. «Россия остается теперь сама с собою, лицом к лицу с фактом духовного упадка и экономического разорения, – говорил Тернавцев. – Пугающая нагота этого факта, общая беспомощность и недоумение перед ним увеличиваются тем, что ждать нового воодушевления гражданского творчества, по-видимому, больше неоткуда»[202]. Докладчик указал и на идейно-нравственное бессилие страны, тут же подчеркнув, что сила России всегда заключалась в ее православии.
Такая логика естественно вела к заключению о малом влиянии православия на состояние страны и к вопросу о положении Православной Церкви. Рассмотрение его Тернавцев начал с «учащих сил» Церкви, указав, что силы эти слабы. Далее, он подчеркнул народность Церкви, заметив, что интеллигенция этого как раз и не понимает. Но приведенные примеры нуждались в объединяющей их «скрепе». Такой «скрепой» и стало указание на отсутствие у Церкви религиозно-социального идеала. В условиях, когда «социальность» была чуть ли не основной качественной характеристикой интеллигенции, подобная констатация звучала как обвинение Церкви.
Тернавцев попытался сформулировать тезис об отсутствии у Православной Церкви в России социальной доктрины и рассказать, почему это плохо. – «Скованная худшими и тягостными формами приказно-бюрократических порядков, исходящих из недоверия к человеку и жестокого невнимания к его нуждам и страданиям, она бессильна справиться и со своими внутренними задачами»[203]. Искренно желавший прихода интеллигенции в Церковь, Тернавцев при этом полагал, что взаимное их расхождение одинаково вредно для двух сторон. Церковь должна принять общественные идеалы, а интеллигенция – церковно-религиозные.
Столь откровенные заявления легально звучали в России впервые. Официальным чиновникам Святейшего Синода и участвовавшим в работе собраний клирикам необходимо было ответить, причем так, чтобы не вызвать раздражения у главы духовного ведомства – К. П. Победоносцева. Эту неблагодарную задачу взял на себя В. М. Скворцов, постаравшийся сгладить острые углы доклада Тернавцева и акцентировать внимание на «учительном достоинстве» православного духовенства. По его мнению, следовало принимать во внимание долгую зависимость преимущественно сельского духовенства как от духовного, так и от светского начальства. Понятно, что вопрос о социальной активности Церкви мог вывести (и вскоре вывел) участников собраний на проблему церковного реформирования, что вовсе не входило в планы обер-прокурора. Однако это случилось не сразу.
Поначалу выступающие не предлагали «лекарства», предпочитая подробно останавливаться на симптомах кризисного положения Церкви. Яркий образчик такого подхода – записка В. В. Розанова, одного из наиболее активных участников собраний. Как обычно, на частном примере, Розанов постарался показать глобальную проблему, подметив наиболее болезненные проявления церковной жизни. Характеризуя верующих столиц и провинции, философ замечал, что большинство в храме составляли «одни простолюдины». «Это гораздо более жутко, – писал он, – чем книги Штрауса и Ренана»[204]. Розанов не боялся указать, что Церковь, в смысле организованного общества верующих, ограничивается старостой, клиром и консисторией. А раз так, то не удивительно, что и к ней отношение соответствующее – не такое, как у старосты, клирика или члена консистории – «в Церкви я не творю – и… холоден к ней»[205].
А там, где кончается творчество, начинается равнодушие, формализм, «мумия веры». «Для всех храм Божий и служба в нем – последнее, остаточное дело, которому дают час, когда есть остаток времени от других дел. Не Ренан же на купцов действует, и не „развращенная русская журналистика“. Просто храм – чужое место и чужое дело, дело клириков и какой-то там запутанной администрации, где я… молился, как опустил на почте письмо или взял в булочной булку. Но не буду же я засиживаться в булочной или на почте, и если храм обернут ко мне так официально, то пусть уж не взыщут, что и я его не держу у себя около сердца, у себя за пазушкой. Я ему не тепел, и он мне не тепел»[206].
Свой тезис о холодности официальной Церкви Розанов развил и в докладе, посвященном отлучению Л. Н. Толстого от Церкви. Докладчик охарактеризовал решение Святейшего Синода как мирское дело, только совершенное не мирянами. Собственно говоря, это был в большей степени доклад не о Толстом, а о Синоде, его «мертвенности», даже нерелигиозности[207]. Прозвучавший на третьем заседании, он показал, что дальнейшие дискуссии неминуемо затронут вопросы политические, ибо Церковь в России была частью государства. И дело было даже не в критике официальных институций, хотя и это выглядело весьма скандально. Проблема заключалась в самом факте существования легальной, но неподконтрольной власти общественной организации, единственным ограничением деятельности которой могла стать ее ликвидация. При этом государство столкнулось не с политическими или идеологическими противниками, а с искренними сторонниками «религиозного пробуждения» страны, желавшими примирения интеллигенции и Церкви. Парадоксальность ситуации от заседания к заседанию становилась все более очевидной, особенно, когда речь зашла о свободе совести.
С докладом на эту тему выступал князь С. М. Волконский. По выраженному им мнению, введение начал государственности в Церковь противоречит самому смыслу существования Церкви, ведь принцип государства – обособление, принцип Церкви – объединение. Введение идеи государственности в число основополагающих начал Церкви обуславливало, по мнению князя, земным, человеческим началом существование Божественного здания. А подобное недопустимо, как противоречащее духу христианства насилие и принуждение в делах веры. В Церковь не только необходимо свободно входить, но также иметь возможность свободно выходить из нее. Обязательность исповедания господствующей религии развращает общественную совесть, так как «заботой человека становится вместо осуществления внутреннего качества внешнее соблюдение видимости»[208]. К тому же запрещением отпадения поощряется лицемерие.
Таким образом, С. М. Волконский по сути раскритиковал существовавшее в России положение, при котором правом пропаганды («оказательства») веры пользовалась лишь Православная Церковь, остальные же конфессии империи имели возможность удовлетворять религиозные нужды только своих адептов. При желании какого-либо инославного или иноверного подданного принять православие проблем обычно не возникало. Совсем иное происходило в случае, когда кто-либо из православных решался изменить вероисповедание. Причем в случае установления факта «совращения» православного «совративший» мог привлекаться к уголовной ответственности. Как замечал С. М. Волконский, «насилие над другими имеет развращающее влияние на совесть того самого большинства, ради которого творится». По словам князя, это насилие «над нами самими».