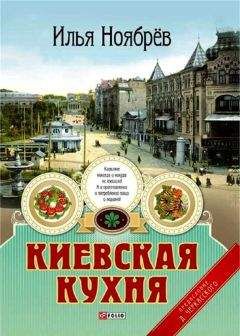Сергей Аверинцев - СОФИЯ-ЛОГОС СЛОВАРЬ
Слово Божие и слово человеческое
[819]
язычество язычеству — рознь; в мистериальных культах, в эсотерических жреческих доктринах, скажем, Египта или Индии, в течениях вроде орфизма или пифагорейства проявлялось несколько более дерзновенное отношение к тайнам богов, — но показательно уже то, что отношение это было жестко резервировано для круга посвященных и не становилось общей нормой.) С точки зрения языческой нормы человеку достаточно, если голоса из других миров подадут ему совет в его собственных, человеческих делах, каковым обычно и был оракул. Эта житейская мудрость, не выходящая за пределы естества здравомыс-ленность язычества, его по-человечески понятная робость в отношениях с запредельным препятствовала развитию и победе на путях простой «эволюции идей» тех элементов монотеизма, которые нетрудно сыскать в любой, особенно архаической — или, напротив, философски переработанной форме язычества. Всевышний, если Он и есть, и даже в особенности если Он есть, обретается с точки зрения язычника так высоко, что до Него не докричаться, и даже упоминать Его — непростительный faux pas; Единый до того велик, что не человеку вести с Ним дела. Вот локальный бог, божок, дух, демон — подходящий и реальный партнер для человека. Чем ниже по лестнице, возвышающейся над нами, тем, очевидно, ближе к нам. Логично, ничего не скажешь. Тем поразительнее, с какой резкостью Библия отвергла эту логику.
Чем, собственно, отличается библейский монотеизм от языческого политеизма? Тем ли, что понятие Единства чисто нумерически противостоит понятию множества? О нет, дело обстоит не так просто. Рационалистическая критика уникальности библейского Откровения о Едином Боге любит, по своему обыкновению, подменять разрыв эволюцией, указывая на монотеистические элементы языческих верований и квази-политеизм монотеистических религий, признающих, скажем, бытие ангелов, вообще, космически-суперкосмических «Сил» (по-еврейскиyhwh seba'6t, откуда наше «Господь Саваоф» — Владыка этих самых «Сил»). И критика по-своему, в пределах своего понимания, права. Если бы различие состояло только в вопросе о «Силах» или о некоем таинственном Едином, Кто стоит за «Силами», его можно было бы, не впадая в грубую ложь, представить как количественное, а не качественное. И у язычников возможно найти некоторое знание о
[820]
С.С. Аверинцев
Едином; и в библейской вере возможно найти представление о «Силах», служащих или, в случае падения, бессильно сопротивляющихся Единому. Но настоящее различие лежит не совсем здесь. Почему язычники рассказывают мифы о Многих, вместо того, чтобы бого-словствовать о Едином, почему они просят помощи у богов, полубогов, крохотных местных божков и бесенят, вместо того, чтобы молить Единого? Потому что с их точки зрения Единый никак не может быть моим личным, «запазушным» божеством. Домовой и леший — близки, колдун, при посредстве которого я с ними сношусь — еще ближе, но Сотворивший небо и землю — головокружительно далек. (Кто же не знает, как эта языческая логика снова и снова возвращалась в «двоеверии» уже крещеных народов?) Напротив, все существо библейской веры выражено в словах, открывающих псалом 62 (63): 'elohim %li 'atta. К сожалению, слова эти в полном объеме своего смысла непереводимы. «Боже, Ты — мой Бог»; все дело в том, что первый раз употреблено то имя Божие (Элохим), которое употребляется в цитированных выше начальных словах Книги Бытия о сотворении небес и земли. «Элохим» — это, так сказать, Всебог, Единый, превышающий все «цеваот»; Тот, о Ком боялись даже подумать осмотрительные язычники, о Ком лишь в отвлеченных терминах («Единое» etc.) умствовали философы. И вот святое безумие и благословенная дерзость библейской веры говорит немыслимое: именно Он, превышающий все сущее, Он, перед которым все «боги» — или слуги, или ложь, Он есть для меня «мой» Бог, Которому принадлежу я и Который принадлежит мне, интимнее, чем какие бы то ни было домашние божки язычества, «лары» и «пенаты», принадлежали миру домохозяина. Самое высокое — не дальше всего от низкого, но, напротив, ближе всего. Слова Корана, согласно которым Аллах ближе человеку, чем яремная вена этого человека, — только эхо, только парафраза библейских слов.
Что же это такое — Откровение, Слово Бога о Самом Себе, Его инициатива в диалоге с Его творением?
И иудаизм, и ислам ответят на этот вопрос однозначно: Откровение — это Текст, Книга Книг, соответственно Тора (и «Танак» в целом) или Коран. Откровение материализовано в Тексте, вмещено и разлито в нем — от его первой буквы до последней. Недаром еврейская религиозная
Слово Божие и слово человеческое
[821]
традиция так любит пересчитывание букв Писания, размышление над свойствами букв именно как букв — над их начертанием и в особенности над их числовым значением (т. н. гематрия, получившая особое развитие в каббалистических течениях, однако существовавшая также вне и до них). Иудаизму не чужда также идея докосмического предсуществования Писания, разработанная с окончательной отчетливостью богословской рефлексией ислама: оригинал, «архетип» Корана, бывший прежде сотворения мира, по отношению к коему автограф Мухаммеда уже был, собственно говоря, списком.
А христианство? Теологи ислама разделили человечество на две категории: язычники и «люди книги» (ахль аль-китаб). Ко второй, высшей, они любезно отнесли наряду с иудаистами и нас, христиан. Адекватно ли это обозначение применительно к нам? Есть очень много причин с ним согласиться. Разве мы не веруем в Священное Писание, хранимое Церковью как замкнутый, завершенный в себе Текст — «канон», от Книги Бытия до Книги Откровения, от «В начале сотворил Бог небо и землю...» до «...Аминь, гряди, Господи Иисусе!»? Католическая богословская рефлексия создала доктрину, широко принятую и в православном богословском дискурсе, о Священном Писании и Священном Предании как взаимодополняющих «источниках» Откровения (что можно хотя бы чисто формально сравнить с иудаистским концептом «Писанной Торы» и «Устной Торы»). Правда, католическая доктрина явилась в эпоху Тридентского собора как вынужденный ответ на протестантский лозунг «sola Scriptura» («одно только Писание» — формула Лютера), а ее православное усвоение локализуется, в общем, на уровне «семинарском», так сказать, «бурсацком». Но как бы то ни было, у самых истоков христианства мы встречаем формулу «как написано» и в устах Самого Христа, и под пером Апостола Павла. «Не может нарушиться Писание», — говорит Иисус Своим гонителям (Ин. 10:35). Новый Завет настаивает на абсолютном значении сказанного в Писании: «...Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой» (2 Петр. 1:21).
Таков тезис: но вот, однако, антитезис. Христианский Символ Веры говорит как о предметах веры о Трех Ипостасях Св. Троицы и о Церкви;
[822]
С.С. Аверинцев
он не упоминает Писания как особого предмета веры. Вере иудейских книжников в букву текста Торы противостоят слова раскаявшегося книжника Павла: «Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6). Исламской вере в предсуществование Корана, т. е. Текста, противостоит христианская вера в предсуществование Иисуса Христа, т. е. Лица. Небезынтересно, что Сам Христос, по-видимому, ничего не писал, обращаясь к людям только с живым, изустным, звучащим словом, по отношению к коему записи Евангелистов в любом случае вторичны. Тот же Павел говорит о том, что настоящее «письмо» (и Апостола, и стоящего за ним Христа) к людям, а значит, настоящий «текст», — это сами верующие в своем личностном бытии, что Дух Божий пишет «не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:2-3). Для самих авторов Книги с крестом на обложке, которую мы называем Новым Заветом, «Новый Завет» — это не заглавие овеществленного Текста, а обозначение самой Церкви, самой «обновленной Жизни» (Vita nova из Рим. 6:4, ставшая заглавием книги Данте). Именно потому, что Откровение для христианства одновременно и тождественно тексту со строгими, канонически определенными границами, и выходит далеко за пределы любого текста, локализуясь в том живом «письме», о котором говорил Апостол Павел, — столь трагикомической выглядит доведшая сама себя до абсурда контроверза об «историческом» и «керигматическом» Иисусе. Если я знаю некое лицо, знаю тех, кто знает его ближе меня, состою с ним в определенных отношениях, и затем получаю от него особенно важное письмо, долженствующее определить, как мне себя вести, — ситуация логична; но если письмо само из себя должно доказать существование отправителя, наличие моих отношений с ним и т. п., выйти из тупика невозможно. При всем почтении и к Отцам Реформации, и к Отцам Тридентского собора, и к православной семинарской учености, перенявшей тридентскую формулу, к историческим резонам Лютера, возревновавшего о достоинстве Писания, а также католических и православных полемистов, защищавших Предание, — решаюсь сказать, что ни Лютерово «sola Scriptura», ни тридентский дуализм «Писание и Предание» не передают достаточно адекватно христианского понимания Откровения. Церковь уже была, когда новозаветного канона просто не было (в то время как написание