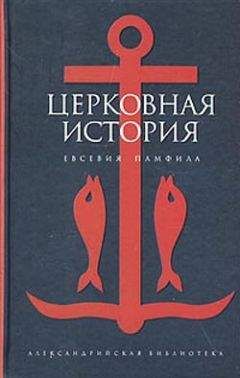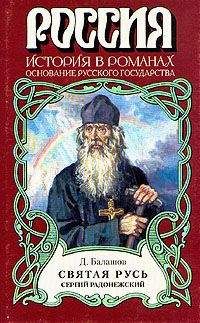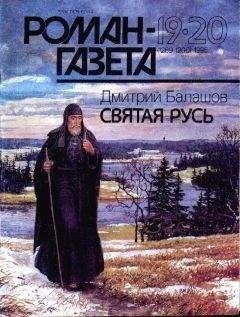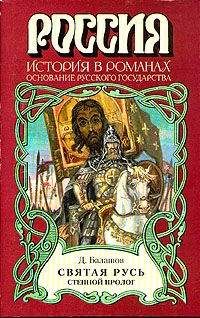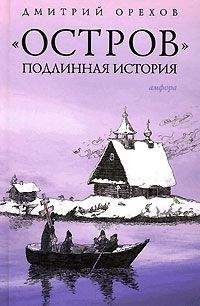Дмитрий Урушев - Святая Русь. Подлинная история старообрядчества
Этим беглецам были обещаны следующие льготы: разрешение не брить бороду, носить народную одежду, освобождение на шесть лет от всяких податей. За манифестом последовал ряд указов, улучшавших положение вообще всех старообрядцев и уравнявших их в правах с остальным населением империи.
Были отменены законы Петра I о бородах, русской одежде и двойном налоге. Также было официально запрещено называть приверженцев церковной старины «раскольниками», вместо этого «хульного имени» вводился термин «старообрядцы».
Впрочем, облегчение положения староверов не означало, что государство признало истинность их учения. Просто просвещенная царица считала, что старообрядцы имеют такое же право свободного вероисповедания, как и прочие ее подданные: новообрядцы, католики, лютеране, мусульмане или буддисты.
Дарование некоторых свобод староверам должно было способствовать благоденствию их общин и благополучию России, что являлось главнейшей целью Екатерины, писавшей: «Я иных видов не имею, как наивящее благополучие и славу отечества; и иного не желаю, как благоденствия моих подданных, какого б они звания ни были»[175].
Самодержице вторила официальная пропаганда, так объяснявшая государственную политику веротерпимости: «Как всевышний Бог на земле терпит все веры, языки и исповедания, то и она <императрица> из тех же правил, сходствуя Его святой воле, и в сем поступает, желая только, чтоб между подданными ее всегда любовь и согласие царствовали»[176].
И только в просвещенное царствование «матушки Екатерины» могло случиться доселе небывалое: в самой Москве, под носом высшего церковного и светского начальства «раскольники» основали свой духовный и административный центр с благолепными храмами. Возник этот центр в связи со следующими трагическими обстоятельствами.
В декабре 1770 года в Москве началась страшная эпидемия чумы, особенно усилившаяся в марте 1771 года. По рассказу очевидца, «народ умирал ежедневно тысячами; фурманщики или, как их тогда называли, “мортусы” в масках и вощаных плащах, длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали на улице, клали на телегу и везли за город»[177].
По распоряжению графа Григория Григорьевича Орлова, направленного в Москву для организации борьбы с мором, все кладбища в черте города были закрыты. Умерших хоронили на погостах подмосковных деревень в братских могилах.
В числе закрытых кладбищ оказались и два старообрядческих. Эти особые погосты с часовнями, известные с 1718 года, принадлежали староверам-поповцам.
Одно кладбище с часовней во имя Тихвинской иконы Божьей Матери находилось у Серпуховской заставы. Существование этого погоста косвенно подтвердилось в апреле 2015 года. Тогда при строительных работах в районе Мытной улицы и Хавского переулка случайно были найдены две надгробные плиты XVII века с надписями на немецком языке – остатки старейшего московского иноверческого кладбища[178].
Для властей старообрядцы были «иноверцами», как и немцы-лютеране, поэтому, надо полагать, их погост располагался где-то неподалеку.
Уже в XIX столетии от староверческого кладбища не осталось и следа. Но Тихвинская часовня просуществовала до начала ХХ века. В виде частной моленной она сохранялась в купеческом доме на Хавской улице.
Другой погост с часовней во имя святителя Николы Чудотворца находился у Тверской заставы. Когда-то неподалеку, на Большой Грузинской улице существовало еще одно иноверческое кладбище – армянское. Возможно, где-то рядом хоронили и усопших старообрядцев.
В конце ХIХ столетия Никольская моленная находилась возле Бутырского вала, в Заставном (Царском) переулке, во владении известных староверов Рахмановых. Иногда эту домашнюю моленную называли «Царской» по фамилии купца Николы Дмитриевича Царского (1783–1861), ее ревностного попечителя[179].
По указу сената вместо двух закрытых кладбищ поповцам была выделена земля для захоронения умерших в трех верстах от Рогожской заставы. Еще в начале ХХ века на Рогожском кладбище сохранялась общая чумная могила с замшелым обелиском.
На нем можно было прочесть, что сие место отведено для погребения умерших от моровой язвы. Тут же читалось стихотворное описание ужасов эпидемии, сочиненное безымянным поэтом и начинавшееся так:
В числе множества удручающих смертных скорбей
Моровая язва свирепее всех поедает людей,
Не щадит она младенцев, ни юношей цветущих лет,
И самым древним старцам от нее пощады нет.
Сия величайшая в мире на человечество напасть
Издревле ужаснее браней наводит собою страсть[180].
При учреждении старообрядческого кладбища была выстроена маленькая деревянная часовня во имя святителя Николы. В 1776 году ее сменил более обширный каменный храм.
В 1790 году с разрешения тогдашнего московского главнокомандующего князя Александра Александровича Прозоровского началась постройка по проекту архитектора Ивана Ивановича Марченкова большой холодной (неотапливаемой, летней) часовни во имя Покрова Богородицы. До сооружения храма Христа Спасителя она была самой обширной из московских церквей. По первоначальному проекту часовня должна была вмещать до трех тысяч богомольцев, иметь алтарные апсиды[181] и пять глав.
О том, что староверы затеяли столь масштабное строительство, стало известно новгородскому и петербургскому митрополиту Гавриилу (Петрову). Митрополит пришел в ужас от подобной «дерзости» и подал императрице записку, в которой писал, что «лютые неприятели государству и государю» «начали строить церковь, превышающую пространством и огромностью Успенский собор, чтобы огромностью сего храма унижать первую в России Церковь в мыслях простого народа». Гавриил предлагал запретить строительство, а «начатую церковь обратить на другие, предписанные законом монархии для призрения бедных или для пользы общественной установления»[182].
Прозоровскому пришлось оправдываться перед Екатериной и срочно приказать «выпуски для алтаря отломать, величины убавить и сделать план с одною главою и крестом». Этим объясняется некоторая несуразность архитектуры Покровского собора: гладкий и простой фасад, непропорционально маленькая глава и отсутствие алтарных апсид. Поэтому с внешней стороны храм напоминает огромный, но простой дом.
Впрочем, как гласит старообрядческое предание, милостивая императрица соизволила пожертвовать московским староверам большое напрестольное Евангелие в серебряном окладе, которое благоговейно хранилось в алтаре Покровского храма.
В 1805 году попечителю Рогожского кладбища купцу Илье Фокичу Шевякову удалось без осложнений начать строительство по проекту архитектора Ильи Даниловича Жукова теплой (отапливаемой, зимней) часовни во имя Рождества Христова. В этом храме регулярно собирались всероссийские соборы духовенства и мирян, управлявшие Церковью.
Рогожское кладбище надолго встало костью в горле у новообрядческого духовенства. В начале XIX века Андрей Иванович Журавлев, сначала беспоповец Федосеевского согласия, а затем протоиерей Синодальной Церкви, с возмущением писал: «Я верное имею свидетельство, данное мне от честных поповщинских людей, что сие Рогожское кладбище или монастырь имеет ныне до двадцати тысяч душ. Толикое число людей в краткое время после мору возросло и умножилось. А место или оный монастырь служит ныне каменем претыкания и соблазна всем простодушным святыя Церкви чадам. Ибо селянин непросвещенный не успеет двух раз побывать на их мольбище, поглядеть на их протяжную службу, увидеть их крестное хождение, которое они оправляют, как вышедши и хвалит уже их обряды, называя оныя святою стариною, а в наших церквах святых присмотренное обычное служение – новою верою. По ней-де не спасешься»[183].
Вокруг кладбища выросла Рогожская слобода. Кроме храмов здесь располагались шесть богаделенных палат, сиротский дом, дом умалишенных и приют, а также дома священников и пять женских монастырей. В 1845 году этими обителями управляли настоятельницы Пульхерия, Александра, Девора, Маргарита и Мелания. Инокини и послушницы непрестанно читали псалтырь по умершим, а также занимались рукоделием: вышивали шелками, золотом и бисером, плели пояса и лестовки, пряли лен и ткали холсты.
Мать Пульхерия (в миру Пелагея Анисимовна Шелюкова), прожившая в Рогожской слободе без малого девяносто лет, была одной из влиятельнейших фигур в старообрядчестве. Без ее участия не решался ни один важный церковный вопрос. Крепчайшая в благочестии, прославленная подвижнической жизнью и начитанностью, она пользовалась среди староверов непререкаемым авторитетом.
Считалось, что схимница Пульхерия, истомившая плоть тяжкими железными веригами, обладает даром прозорливости и пророчества. Сам московский митрополит Филарет (Дроздов), могущественный иерарх Синодальной Церкви, оказывал ей глубокое уважение.