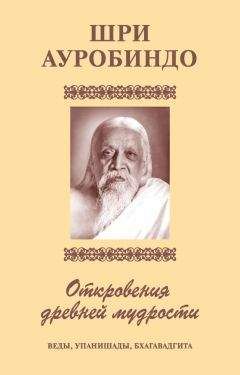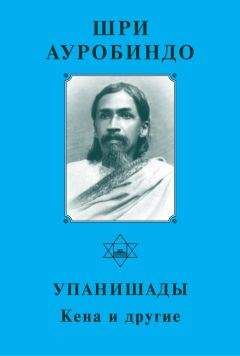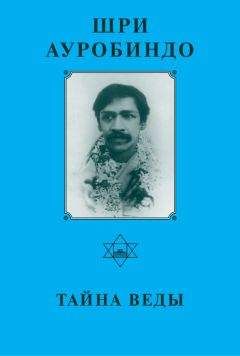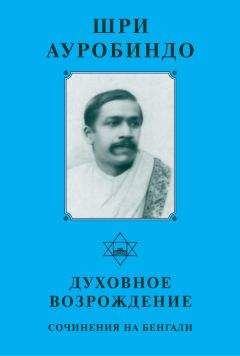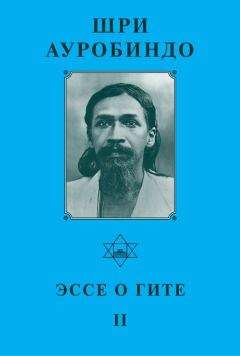Сергей Аверинцев - Тема чудес в Евангелиях: чудо как деяние и чудотворчество как занятие
Повседневная деятельность Иисуса как экзорциониста-целителя составляет в Евангелиях непрерывный фон повествования; определенное воздействие этого фона испытывают и такие эпизоды, которые при искусственно изолированном рассмотрении можно было бы обозначить как «рассказы о чудесах». Характерно, что в них интерес повествователя концентрируется по большей части вовсе и не на чуде как таковом, а на таких его «акциденциях», как, скажем, табуированное субботнее время, запрет исцеленному рассказывать об исцелении и нарушение этого запрета и т. д [13]
Заметим, что и с точки зрения собственно литературной постоянное чудотворение, в отличие от чуда, — довольно неблагоприятный, невыгодный предмет, принуждающий к утомительным повторам, к суховатой краткости и т. н.; для стратегии приведения читателя к эмоциям умиления такое не подходит. В этой связи симптоматично, что памятник греческой языческой литературы, провоцирующей больше всего сравнений с изображением чудес Христа, — Филостратово «Жизнеописание Аполлония Тианского» — не представляет именно для этого никаких аналогий; даже нельзя представить, чтобы такой опытный ритор, как Филострат, позволил себе такой невыгодный ход. Когда ему в виде исключения нужно, чтобы различные исцеления были упомянуты подряд, как в III, 39, он напрягает свои силы, чтобы каждый сюжет сохранил литературную самостоятельность, т. е. и вправду являл собой Wundererzcihlung, чтобы между ними сохранялось отношение симметрии, чтобы такие магические подробности, как присоветованное Аполлонием использование зайца для облегчения трудных родов, вносили разнообразие. Но более характерны отдельные, замкнутые в себе повествования, как пробуждение невесты, то ли умершей, то ли уснувшей летаргическим сном и день своей свадьбы (IV, 45); хотя внешнее сходство мотива заставляло строить гипотезы о возможном знакомстве Филострата с евангельским эпизодом воскрешения юноши из Наина (Лк. 7:11–16; ср. также воскрешение дочери Иаира, Мк. 5:35–43), это сходство не должно мешать нам видеть сквозь него коренное различие в разработке. Филострат разрисовывает сценку, когда Аполлоний велит остановить носилки, а все понимают это так, что он будет произносить надгробную речь; обсуждается вопрос, не была ли невеста на самом деле жива[14], и выясняется, из какой подробности мог наблюдательный тавматург это понять, — может быть, на ее лицо упала росинка, и легкий пар обнаружил, что тело сохраняет теплоту, и т. п. Иначе говоря, это не просто повествование как один из видов человеческого высказывания, это именно «диэгеза» как один из жанров античной риторики. В Евангелиях ничего подобного нет. Впрочем, дело не только в том, что Филострат — носитель риторической выучки; применительно к сохранившимся записям о чудесных исцелениях в языческом святилище Асклепия в Эпидавре[15] о какой-либо особенной литературной элегантности говорить не приходится, однако внимание естественным образом еще более сосредоточено на отдельных эпизодах, каждый из которых неизбежно представляет собой обособленное целое и. постольку еще дальше отстоит от евангельской трактовки темы.
Так обстоит дело в плоскости литературной; а что можно сказать с точки зрения прагматических нужд оснащения керигмы для ее функционирования в обществе того времени? Возвращаясь к тому, с чего начал, признаюсь, что не вижу возможности видеть в описаниях тавматургической деятельности некий безобидный декоративный элемент, украшение, прагматически удовлетворяющее запросы «потребителя» и будто бы во всяком случае не могущее повредить. Уже в Евангелии от Марка зложелатели говорят, что Христос действует «силою князя бесов» (3:22). Выражение «князь бесов» действительно похоже на терминологию, принятую в иудейской среде того времени: его варианты засвидетельствованы и в кумранских текстах (1 QS3, 20–21), и в апокрифической литературе (Test. Sol2, 9; 3, 5; 6, 1). Что до магически понимаемого чудотворства Иисуса, это топос, весьма характерный для раннеиудейской полемики против христианства и отразившийся во II в. у св. Юс-тина в его «Диалоге с Трифоном иудеем» (69), а также у Оригена в споре с Кельсом, который ввел в качестве партнера фигуру иудея и суммировал от его лица иудейскую версию евангельских чудес: якобы Иисус обучился от египтян специальным магическим приемам, т. е. все той же уоцхыа. (С. Cels. I, 28). Позднее тот же мотив присутствует в Вавилонском талмуде {Sanh., 43а. 107 Bar.; Sotah, 47а), упоминается он и в Иерусалимском талмуде (Hagiga, II, 1); еще позднее зафиксированы иудейские рассказы о том, как Иисус (Иешу га-Ноцрн) овладел тайным именем Божьим и употреблял его для чудотворства (различные изводы т. н. Toledothjeshu [16]). Негативный образ Христа в еврейской и, вторичным образом, языческой полемике — это в основном именно образ Тавматурга с обратным знаком. Высказывалось даже мнение, согласно которому обвинение в магии, снова и снова в одной и той же формулировке повторяющееся в только что упомянутых местах Талмуда, восходит к официальному постановлению Синедриона[17]. Разумеется, это не более чем гипотеза, может быть, превышающая меру осторожности; и все же она в самом общем виде отвечает некоему аспекту исторической истины, слишком легко утрачиваемому гиперкритицизмом. При всей неоспоримости соображений о роли в определенных текстах counterhistory, «антиистории», созидавшейся еврейскими полемистами через рецепцию христианских мотивов с противоположным оценочным отношением[18], мы не имеем оснований исходить из априорной предпосылки относительно полного отсутствия у евреев, во всяком случае в эпоху Талмуда[19], своей собственной устной традиции о не таких уже отдаленных во времени и несомненно запоминавшихся, хотя бы в локальном масштабе Палестинского иудейства, событиях.
Одиозные коннотации, которые легко получала тема чудотворства, могли вызывать как раз в апологетическом дискурсе попытки ее элиминировать. Как ни относиться к спорному вопросу о так называемом TestimoniumFlavianumв передаче всемирной хроники Агапия Мапбиджского[20] — видеть ли в этом тексте арабский перевод подлинных слов об Иисусе благожелательно настроенного иудея Иосифа Флавия или искусственную конструкцию происхождения христианского или даже мусульманского,[21] — очевидно, что его интенцию можно хотя бы в самом широком смысле назвать апологетической; в этом отношении характерно, насколько он исключает вопрос о чудесах, двигаясь в направлении к «очищенному» образу доброго и мудрого Учителя почти наподобие того, как это будут делать европейские либеральные апологеты со времен Просвещения. Как раз оглядка на отчетливо присутствующий в Евангелиях мотив выступления Христа с постоянной, длящейся изо дня в день чудотворчески-целительской деятельностью, не сводимой к отдельным драматическим «новеллам» и «рассказам», заставляет особенно живо почувствовать правоту слов немецкого теолога Ф. Й. Ширсе: «Иисус, освобожденный от всего чудесного, — это Иисус неисторический»[22].
Примечания
1
G. E. Lessing. Die Religion Christi. Werke, hg. V.H.G. Gopfert, Bd. 7, Miinchen, 1976, s. 711–712. Проблема чуда специально обсуждается в другой работе: UberdenBeweisdesGeistesundderKraft. Werke, Bd. 8, Miinchen, 1979, S. 9-14. Для Лессинга, сказавшего свое слово не только за себя, но и за своих многочисленных наследников, характерна не столько убежденность в невозможности чуда, сколько, так сказать, эмоция брезгливости по отношению к предполагаемой исторической фактичности чуда ввиду низшего гносеологического статуса всего чересчур конкретного. Его тезис: «Случайные исторические истины никогда не могут служить доказательством необходимых истин разума» (Ibid., S. 12). При всей очевидности стоящего за этой аргументацией интеллектуального аффекта, она оказалась гораздо долговечнее насмешек вольтерьянского типа.
2
D. F. Strauss. Der Leben Jesu kritich bearbeitet, 1–2. Tubingen, 1835–1836, позднее многочисленные переработки.
3
См. цнт. соч., т. 1, с. 75. Для Штрауса этого периода характерна та же либерально-христианская апологетическая тенденция, что и для большинства его просвещенческих предшественников, а также, mutatismutandis, для многих его продолжателей: он хотел спасти возвышенный моральный смысл Евангелий от компрометации недолжными мотивами. Как известно, в конце жизни Штраус позволял себе выпады против и такой апологетики; но это характеризует его личную внутреннюю эволюцию
4
Современная исследовательница осторожно говорит в этой связи о жанре, «который сейчас называют ареталогпческим, а в древности он определенного названия не имел, так как к изящной словесности не причислялся» (Е. Г. Рабинович, «"Жизнь Аполлония Тианского" Флавия Филострата», в: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тпанского, М., 1983, с. 221). Ср. нашу попытку призвать к осторожности в оперировании категорией жанра: С. С. Аверинцев, «Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости», в: Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. Отв. редактор М.Л. Гаспаров, М., 1989, с. 3–25 (перепечатано в: С. С. Аверинцев. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М, 1996, с. 191–219).