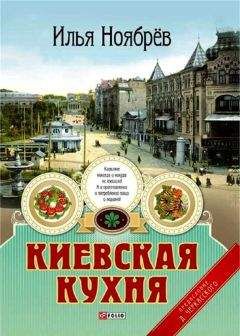Сергей Аверинцев - СОФИЯ-ЛОГОС СЛОВАРЬ
Этот «дух времени» проявляет себя, по выражению кардинала П. Пупара, как абсолютный релятивизм, который «готов признавать все, что угодно, кроме абсолютной истины»3. Одно из его выражений — т. н. сексуальная революция, которая давно уже действует отнюдь не только «пермиссивно», но и агрессивно, развязывая моральный террор, который, похоже, превзойдет все кошмары лицемерия, ханжества и «прюдства» былых времен — по общему закону, по которому революционный террор эффективнее, нежели старорежимный. Христианская этика, оставаясь верной самой себе, при любой степени такта и миролюбия со стороны своих носителей неизбежно становится вызовом умонастроению, празднующему свою победу и стремящемуся принудить всех к безоговорочной капитуляции.
Земная, посюсторонняя, институциональная защита, которую система «христианского мира», «христианского общества», «христианского государства» хотя бы по видимости обеспечивала для ценностей нашей веры, утрачена невозвратимо. На предвидимое будущее мы все приглашены основательно поразмыслить над текстом Послания к Евреям (13:14): «Не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего».
Разумеется, огульные суждения всегда опасны. То тут, то там Бог еще сберегает в Европе оазисы, в которых жизненная норма доселе в большой мере определяется драгоценным наследием традиционного благочестия. Наша обязанность — ценить и по возможности сберегать эти оазисы: как знать, быть может, еще наши внуки найдут там утешение
[25] — 2506 Лверинцев
[770]
С.С. Аверннцев
и увещание для своих сердец. Но это лишь осколки былого «христианского мира». И разве современность и «дух времени» со всеми своими аксессуарами не находят дороги в эти уголки? Для героического католицизма поляков квазидемократическая вседозволенность оказывается врагом едва ли не более опасным, чем были вчера коммунистическая идеология и советская оккупация. Как бы то ни было, оазисы — всего лишь оазисы посреди широко раскинувшейся пустыни; и «пустыня растет», как в свое время напророчил Ницше. Однако именно в пустыне, не в ином месте, велит пророк Исайя готовить пути Господу. Благо тем, кто посреди пустыни наших дней сбережет нечто от духа пустынножителей, Отцов Пустыни! Так понимает, насколько мне известно, свою задачу парижская Communaute de Jerusalem: лицом к лицу противостоять пустыне в самом сердце современного мирового города.
Если будет на то Божия воля, из подвига новых Отцов Пустыни родится новый «христианский мир». Но он будет совсем новым, еще невиданным: ибо Господу нашему не свойственно повторяться — Он «творит все новое» (Откр. 21:5). Но в ближайшем будущем, доколе близорукое мое зрение может различать контуры предметов, я вижу только дальнейшее развертывание логических следствий ситуации «пустыни», — иначе говоря, ситуации христианства без «христианского мира».
Нам необходимо ясно понять, что именно является самой антагонистической противоположностью нашей веры. Атеизм старого закала, искавший для себя научных или псевдонаучных обоснований, давно уже не страшен. Он близок к смерти; будущее готово нанести ему последний удар. «Внутренний опыт» атеизма, так обстоятельно обсуждавшийся теологами и религиозными философами XX столетия — вспомним хотя бы оксюморониую мифологему Леопольда Циглера «Theos Atheos»'1, — относится к числу проблем, в общем, разрешенных; если он когда-нибудь имел самостоятельное содержание, в чем я лично осмеливаюсь сомневаться, содержание это как следует переварено и усвоено христианской мыслью. Но упадок атеистической идеи — увы, отнюдь не причина для благочестивого ликования верных. Более наивными, более простосердечными и чистосердечными, чем наши, были времена, когда идея Бога и для отступника оставалась настолько важной, что отделаться от нее можно было только посредством формального, теоретически
Будущее христианства в Европе
[771]
провозглашенного отрицания. Эти времена миновали. Радикальный релятивизм и прагматизм в сочетании с практикой модного образа жизни порождают весьма специфическое состояние души, при котором вопрос о бытии Божием, не получая отрицательного ответа, утрачивает — заодно со всеми остальными «последними» вопросами — всякую серьезность. В перспективе феноменологии человеческих типов это гораздо страшнее, нежели атеизм.
Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Чтобы справиться с этой задачей, ему нет надобности являть себя ни специфически «консервативным», ни специфически «либеральным» и «передовым»; от него требуется быть всего-навсего — убедительным. (Легко сказать!) Иное дело, что всегда, по-видимому, будут богословы, сравнительно «консервативные» и сравнительно «либеральные»; но в своем статусе идей и теологический консерватизм, и необходимо предполагающий его и соотнесенный с ним теологический либерализм обречены в значительной мере утратить смысл. Дело в том, что по смыслу обе эти тенденции были слишком сильно обусловлены ситуацией постепенного распада старого «христианского мира»: консерватизм тщился сохранить распадавшиеся связи, либеральная теология, напротив, желала высвободить из власти этих связей индивидуальное религиозное чувство. Слишком очевидно, что в «мирском Граде», в «Secular City» Гарвея Кокса консерватизму нечего больше охранять, как либеральной теологии некого больше освобождать: первый рискует опуститься до уровня безнадежной ностальгии, вторая — до уровня жеста и фразы.
«Будущее» — это приходящие в мир поколения. Для них должно христианство явить свою убедительность. И в этой связи нелишне помнить об одном замечании Т. С. Элиота: молодым людям, которые хоть чего-нибудь стоят, не только честнее, но и прагматически благоразумнее предлагать христианство как возможно более требовательную веру. Все, что не в меру удобно и уютно, вызывает у них законное отвращение.
Чтобы оставаться собою, христианство должно возможно строже соблюдать дистанцию по отношению ко всем посторонним для него
[772]
С.С. Аверинцев
целям, — в частности, националистическим. Это — требование духа и одновременно требование реализма, поскольку христианство все более зримо и отчетливо будет верой христиан, а не «христианских народов». Правда, именно сегодня мы переживаем в экс-коммунистической Восточной Европе катастрофический взрыв национализма, приносящего с собой, в числе иных бедствий, также новейшую подделку под религиозные войны эпохи конфессионализма: например, у сербов и хорватов. Следует надеяться, что этот взрыв — слишком очевидно порожденный скоропреходящей ситуацией так называемого «идеологического вакуума» и не имеющий более глубоких оснований — окажется недолговечным. И затем последует неминуемая реакция. Все, что сегодня компрометирует себя связью с националистической истерией, испытает на себе тяжесть того же презрения, которое сегодня падает на то, что опозорило себя угодничеством перед тоталитаризмом вчерашнего дня. Как бы то ни было, очевидно, что подчинение посторонним целям искажает суть христианского благовестия. Мы призваны Нагорной проповедью искать Царствия Божия и правды Его; все прочее — будь то благополучие нашего земного отечества, всей Европы, всей мировой цивилизации — должно, по обетованию Христову, «приложиться», т.е. быть следствием, но не целью стремления к той, высшей цели.
И надо полагать, надо надеяться, что будущие поколения спросят не о «национальном» (или, напротив, «либеральном») христианстве, но о христианском христианстве.
Именно поэтому весьма вероятно, что они будут искать скорее Церкви Христовой, Святой и Единой, нежели «конфессиональной идентичности» как таковой. Выше мне приходилось говорить о том, что как христианская вера, так и ее конкретные формы все реже и реже наследуются по праву рождения, всасываются с молоком матери. Во многих отношениях это весьма печально — для христианской культуры в самом широком смысл слова: неофит должен искусственно, впадая в опасности натужного безвкусия, воспитывать в себе навыки, которые у прежних поколений христиан проявлялись красивой естественностью прирожденного инстинкта. Но для вселенского сближения, а даст Бог — и воссоединения «людей христоименитых» такая ситуация создает новый шанс. Вместе с наследуемой верой наследовались также вековые
Будущее христианства в Европе
[773]
конфессиональные обиды и предубеждения, вместе с традиционной религиозной культурой — исключительность этой культуры. Но для того, кто в ширящейся пустыне грядущих дней, в безвоздушном пространстве и состоянии невесомости порожденных тотальным релятивизмом, свободно выберет Христа, едва ли будут особенно интересны старые, просроченные счеты, которые одна христианская конфессия предъявляет другой.