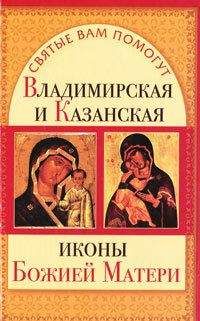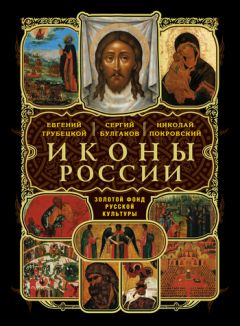Ирина Языкова - Богословие иконы
Завершая краткий обзор иконографии Иисуса Христа, вернемся вновь к основе основ иконы — тайне Воплощения Слова Божия. Образ, явленный нам однажды в лице Иисуса Христа, освещает всю нашу жизнь, открывает возможность в нас становления и восстановления образа Божия, а также преображения всего мира. Христоцентризм нашего спасения делает христоцентричной любую икону и иконопочитание в целом.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»
(Деян. 4.12). Особенно это касается образов Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, каждая икона Которого есть ступенечка к Нему Самому, маленькая ниточка, связывающая образ и Первообраз. Предстоя иконе, мы предстоим Самому Богу, но не потому, что Бог в иконе, а потому, что икона есть знак Его присутствия и призыва к нам. Как пишет Л. Успенский, «икона не изображает Божество, она указывает на причастность человека к Божественной жизни». [12] Икона не есть гарантия нашего спасения, но помощь на пути к нему, в этом смысле особенно неоценимое значение имеют образы Спасителя, «истинно, а не призрачно воплощенного Бога Слова». Православная аскетическая практика уделяет иконе особое место, чтобы человека вела от видимого к невидимому не собственная фантазия и пустые мечтания, а Слово Божье, «ради слабости понимания нашего» (св. Иоанн Дамаскин), облеченного в образы.
О практически-аскетическом аспекте иконопочитания митрополит Филарет Московский писал так: «Чтобы в поисках присутствия Божия ум не впадал в химерические представления, чтобы мысли сосредотачивались и ограждались от рассеянности, святой образ Бога, являвшегося во плоти, представляется одновременно взору чувственному и созерцанию духовному и собирает мысли и чувства, внешние и внутренние, в едином созерцании Божественного». [13]
В осмыслении образа Иисуса Христа иконография имела огромное значение. Во-первых, через икону сложнейший догмат Никейского и Халкидонского соборов становится ближе, понятнее и доступнее для простого верующего, отнюдь не обладающего богословскими познаниями. Во-вторых, развитие иконографии способствовало тому, что в сознании верующих облик Иисуса Христа приобрел устойчивые черты. Динамика становления образа на протяжении веков дает представление о большом диапазоне колебаний — от ранних средневековых образов, основанных на утверждении о некрасивости внешности Спасителя (Ис. 53.2-3), в противовес внешней чувственной красоте античных богов и героев, вплоть до сладостной красоты «живоподобных» ушаковских икон и сусальных софринских образков. Однако между этими крайними точками мы находим тип, выработанный в Византии (классический тип — образы св. Софии Константинопольской XII-XIV вв., русские иконы XV в.), в котором мужество и милосердие, аскетизм и классическая правильность черт соединены весьма гармонично. Достаточно вспомнить рублевский образ Спаса из Звенигородского чина — это не только художественная вершина, но прежде всего откровение богословское и мистическое, потому что образ Христа в этой иконе раскрыт в удивительной полноте и гармонии, соединяющей ум и сердце.
«Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
(2 Кор.3.18).
Спас. Андрей Рублев. 1420-е гг
Иконография Святой Троицы.
Храни исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа... единое Божество и единую силу, которая обретает в Трех единично, и объемлет Трех раздельно, без различия в сущностях и естествах, не возрастает и не умаляется, через прибавления и убавления, повсюду равна, повсюду та же, как единая красота и единое величие неба.
Св. Григорий БогословМожно ли изображать Бога Отца?
Тринитарный догмат, так же как и христологический, составляет основу христианской веры. Оба они теснейшим образом связаны через тайну Боговоплощения. Но по образному выражению Бл. Августина постичь тайну Св. Троицы труднее, нежели вычерпать море ложечкой. История Церкви свидетельствует, как трудно входило это Откровение в сознание христиан — вплоть до XX века христианский мир искушается различного рода антитринитарными теориями, — тайными и явными (унитарии, стригольники, софиологи и проч.). Предвидя подобные трудности, св. отцы старались разъяснять тайну «неслиянности и нераздельности» Божественного Триединства через образы и символы. Так одни говорили о воле, разуме и действии, другие приводили аналогии с солнечным сиянием, где одновременно едины и различимы солнце, луч и свет. Третьи размышляли о тайне и гармонии любви, где лица-ипостаси взаимоотносятся как Любящий, Любимый и Любовь. И при этом все сходились на том, что Св. Троица — это не количество, а качество Бога, непостижимое для человека, но данное ему в Откровении. Св. Василий Великий так пишет: «Господь, передавая нам об Отце и Сыне и Святом Духе, не счетом переименовал их; ибо не сказал: в первое, второе и третье, или — в одно, два и три; но в святых Именах даровал нам познание веры, приводящее ко спасению... Мы счисляем не через сложение, от одного делая наращение до множества, и говоря: одно, два, три, или: первое, второе, третье». И выразить это иное, отличное от человеческого, качество бытия, крайне сложно и практически невозможно, потому и Бл. Августин говорит: «Когда речь заходит о Боге, мысль оказывается более точной, чем способы ее выражения, а реальность — более точной, чем мысль».
Христианское искусство также сталкивалось с трудностями в выражении Откровения о Троице, хотя желание поведать об этой неизреченной тайне через изобразительный язык рождается уже среди первых христиан.
Довольно рано в иконографии появляется сюжет «Явление трех ангелов Аврааму» (иначе «Гостеприимство Авраама»). Мы находим его в живописи катакомб, например, на Виа Латина (IV в.), а также в ранних мозаиках, например, в ц. Санта Мария Маджоре в Риме (V в.) и в ц. Сан-Витале в Равенне (VI в.). Уже в этих памятниках иконографическая схема носит вполне догматически осмысленный характер. Не все богословы ранней Церкви видели в этом сюжете явление Бога в Трех Лицах, но со временем именно этот сюжет станет основой для выражения образа Троицы в иконописи. [14]
В период иконоборчества многие богословы высказывают сомнения в правомочности изображения Св. Троицы человеческими средствами. В этот период вообще старались избегать сюжетных изображений, заменяя их символическими. Самое известное из них — композиция «Престол уготованный» (по греч. ετοιμασια) из ц. Успения в Никее (VII в.) [15]. Престол обозначает Царство Бога Отца. На нем изображена книга — символ Слова Божьего, Второго Лица Св. Троицы, Бога Сына. На Книгу опускается голубь — символ Св. Духа, Третьей Ипостаси. Исповедание Св. Троицы передается через символы, что заставляет вспомнить традиции апофатического богословия.
Апофатическое богословие в православной Церкви всегда было как бы обратной стороной богословия катафатического. Апофатический способ познания Бога и, как следствие его, апофатический способ выражения мысли в отличие от катафатического строится на принципе отрицания. Мысль как бы отталкивается от противного, от того, чем Бог не является, ибо в действительности нет ничего, с чем можно было бы Бога сравнить. Примером апофатического способа постижения Бога может служить стихотворение известного немецкого мистика Ангелуса Силезиуса, жившего в XVII в.
Постой! Что значит Бог?
не дух, не плоть, не свет,
не вера, не любовь,
не призрак, не предмет,
не зло и не добро,
не в малом Он, не в многом,
Он даже и не то, что называют Богом.
Не чувство Он, не мысль,
не звук, а только то,
о чем из нас из всех не ведает никто.
Апофатическое богословие всегда было более свойственно христианской мысли Востока, но в данном случае голос западного мистика говорит в пользу общности духовного опыта обеих традиций.
В иконе апофатический и катафатический способ выражения соединяются, так как видимое и условное является в иконописи изображением невидимого и безусловного. Знаковый символический характер иконописного языка не претендует на полную достоверность, и уж тем более тождество образов Первообразу. Но удержаться на грани соединения апофатического и катафатического трудно. В различные эпохи иконописцы впадали то в одну, то в другую крайности — от иконоборчества (чистого апофатизма) переходили в грубый иллюзорный реализм (плоский катафатизм). Но всегда икона как феномен богословской мысли искала золотую середину, и интуиция иконописцев стремилась к адекватному способу изображения.