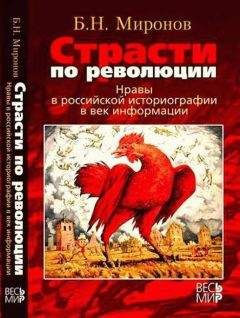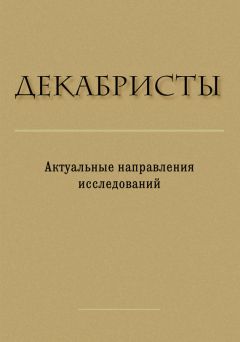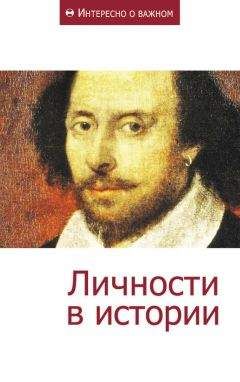Сборник статей - Мусульмане в новой имперской истории
Во всех этих случаях отчетливо виден язык власти, точнее, определенная властная иерархия языков, в которую вписываются переводы непонятных терминов и текстов. Долгое время отечественные историки относились к ним чисто утилитарно, как и те, кому были адресованы эти документы. Пора заняться изучением политической роли переводов в системе языков власти и исторических нарративов об исламе в Российской империи и Советском Союзе. Источники с Северного Кавказа дают широкое поле для такой работы. Как уже говорилось, до середины XX в. русский язык в Дагестане знали единицы. По этой причине в течение более полувека все основные постановления публиковались здесь в переводе на арабский (а нередко также азербайджанский и кумыкский языки в арабской графике). С 1860 по 1917 гг. в крае действовало так называемое военно-народное управление, при котором мусульманские джамааты сохранили широкую судебно-административную автономию под властью офицеров русской армии. Основной ячейкой ее было сельское общество, сконструированное по образцу пореформенной крестьянской общины внутренней России. Его основные принципы определил «Проект положения о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области», принятый 26 апреля 1868 г.
Чтобы образованные мусульмане смогли понять закон и довести его до сведения неграмотных односельчан, «Проект положения» был переведен на арабский и отпечатан литографическим способом в Темир-Хан-Шуре[190]. Только через тридцать лет в той же типографии вышел параллельный русский и арабский текст постановления. Роль военно-народного управления среди реформ на Северном Кавказе сопоставима со значением крестьянской реформы во внутренних губерниях России. Новая система власти апеллировала прежде всего к народу (под которым здесь понимались в основном горцы), ища опору реформ в народных обычаях и общине. Власти попытались сгладить различия между общинниками, рабами и горской знатью. В сельскую общину допускались лишь свободные общинники (уздени) и уравненные с ними в правах рабы, освобожденные к 1867–1868 гг., принадлежащие к одному джамаату. Было бы крайне интересно проследить, каковы были установки перевода, какие военные переводчики занимались им, как повлияли на них ключевые понятия этнографии XIX в., например «поземельная община», переведенная на арабский как джама'ат ал-карйа. К сожалению, пока такой работы никто не проводил.
Проблемы перевода антисоветских текстов 1930-х годов
Кроме переводов концептуальных нормативных текстов с языка высшей имперской власти на язык туземной мусульманской элиты, имелись и обратные переводы, целью которых было довести до сведения властей мнение о них мусульманских подданных, и, если оно носило антиправительственный характер, определить меру наказания за него. Я уже говорил про переводы «воззваний» суфиев-мухаджиров последней четверти XIX – начала XX в. Времена тогда были относительно мягкие, и случалось, что дагестанцев, привозивших из-за границы письма и трактаты суфийских наставников, миловали, если оказывалось, что сочинения эти оставляют в стороне российскую политику, обсуждая отвлеченные суфийские практики (зикра, хатмов, рабиты и проч.) и правила поведения муридов в братстве. Так случилось, в частности, с Исой Мусаевым из Аксая, сначала арестованным в Терской области в 1912 г. за пропаганду «учения тариката» и приговоренного за это к бессрочной ссылке во внутренние губернии России. Однако после перевода на русский язык найденных у него бумаг отношением наместника кавказского графа И.И. Воронцова-Дашкова было решено освободить Ису от несения незаслуженного наказания[191].
Положение изменилось с началом сталинских репрессий, когда даже устная критика властей стала достаточным основанием для ссылки, каторги и расстрела (по печально знаменитой 58 статье УК РСФСР). Большинство обвинительных заключений и документов о «врагах народа» из числа «мулльско-шейховских элементов» составлено на языке антирелигиозной пропаганды власть имущих. Однако среди оперативных дел НКВД, на основе которых впоследствии проводились аресты и расстрелы, встречаются документы, выдающие исламский язык местной оппозиции. Один из таких документов был недавно обнаружен дагестанским историком И.Х. Сулаевым в фонде ЦГА РД р-800. Это «Справка по агентурным ресурсам на 1 октября 1933 г.» среди мусульман и суфиев. К делу приложены две «листовки», представляющие перевод с аварского языка (в арабской графике) на русский антисоветских стихов старшего мурида Хуштадинского шейха. Документ этот вызывает двойственное отношение. С одной стороны, это очередное сфабрикованное политическое дело, тянущее на ст. 58–10 и 58–11 – контрреволюционная агитация и участие в контрреволюционной организации. С другой – текст выдержан в образах исламской апокалиптики, видит в советской власти возвещающего приход Судного дня антимессии ад-Даджжаля:
«Будь твое имя написано на дне ада, Дажжал!..
Поклялся что ли уничтожить религию?
Будь ты разрублен религиозными мечами!
Почему ты не боишься хотя бы бога?
Пусть гниют корни твоей власти!
Не оставишь ли ты на земле людей религии?
Пусть будут несчастны дни твоего тухума!
Ученые арабисты вам мешают что ли?..»
Положения другой «листовки» дальше от оригинала. Они были явно «переведены» на антирелигиозный советский язык того времени. Судный день (йаум ад-дин) превратился в нем в «приближение… конца» советской власти. Его признаками названы «создание… колхозов, артелей», «повышение правоспособности девушек», «запрещение торговли», «открытие ясель». В аварском оригинале, как можно догадаться, говорилось, что советская власть запрещает разрешенное шариатом (халал) и разрешает запретное (харам). Возможно все же, что оба текста вышли из суфийских кругов. В пользу такого предположения говорят близкие к ним по форме и содержанию арабские эпитафии, обнаруженные мной в 1995 г. на мавзолее упомянутого в деле шейха Хусейна ибн Пир-Мухаммада из Хуштада. Первая, высеченная 4 раби‘ ас-сани 1354 (6 июля 1934) г., называет его «знаменитым шейхом, совершенным наставником и учителем накшбандийского тариката, страдальцем…. умершим мучеником (шахидан) в заточении… в 1349 (1930-31) году». Слева от нее под стеклом тушью на ватмане написана эпитафия его сына Абдуллаха, скончавшегося 1 зу-л-хиджжа 1360 (20 декабря 1941) г., «скрываясь… от неверующих и лицемеров, убивающих ученых и святых (ал-‘улама’ ва-л-аулийа’) и расхищающих их добро».
С мавзолеем накшбандийских шейхов в с. Хуштада Цумадинского района связан обширный пласт местных устных преданий, прославляющих высокую религиозность горцев, их верность исламу. Он воплощает для хуштадинцев местные исламские традиции. Хуштадинцы любят рассказывать не столько про деятельность Хусейна, сколько про его гибель. Говорят, что в разгар коллективизации его арестовали и отвезли в Махачкалу. Изъятую при аресте арабскую библиотеку целый день жгли в райцентре. Хуштадинцы выкрали тело шейха. Переломив ему хребет, его в мешке привезли в селение, где тайно похоронили. Бежавший из ссылки в Казахстане сын погибшего Абдулла пробрался на родину и до смерти жил на подношения хуштадинцев, скрываясь от властей в землянке-худжра в горах над селением. После Абдуллы имамом в Хуштаде был сначала Сайпулла (ум. 1972), а затем его ученик и бывший муэдзин (будун) Шерапутдин (ум. 1995). Мне с гордостью поведали, что только благодаря самоотверженности этих имамов джума-мечеть селения ни разу не закрывалась в годы советских гонений. До 1989 г. она оставалась единственной легально действующей мечетью всего Цумадинского района[192].
* * *Я высказал лишь некоторые методологические соображения по поводу этого интересного источника. Стихи мусульман Северного Кавказа еще абсолютно не изучены. Между тем они чрезвычайно важны. Чего стоят хотя бы арабские стихотворения руководителя антисоветского восстания 1920–1921 гг. Наджм ад-дина из Гоцоба (Гоцинского)! Завершая эту статью, я хочу еще раз отметить важность для исследования российских мусульман на Северном Кавказе таких факторов, как язык архивных источников, наличие их официального перевода, авторство анонимных служебных записок и доносов одной фракции местной мусульманской элиты на другую, критерии статистики мусульманских общин и учреждений, ее идеологический подтекст и, наконец, значение устных историй для реконструкции прошлого и настоящего значения архивных документов. Разобранные выше архивные материалы из Дагестана, Северо-Западного Кавказа и Болгарии говорят о том, что и после архивной революции исследование архивных первоисточников по истории ислама в царской и советской России далеко не закончено. Хочется надеяться, что на Северном Кавказе оно будет продолжено.