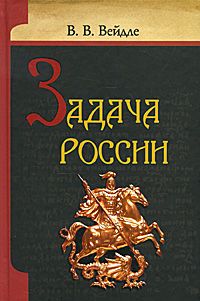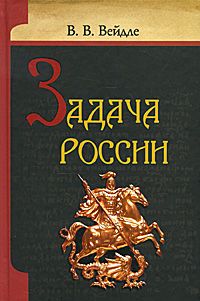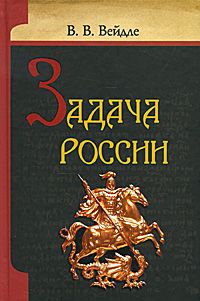Владимир Вейдле - Умирание искусства
Необходимые условия художественного творчества стали недосягаемой мечтой. Целое столетие архитекторы тщетно искали архитектуру. Они продолжают искать ее и теперь, но все решительней обращаясь от архитектуры стилизующей к архитектуре, начисто обходящейся без стиля, к так называемому рациональному или функциональному строительству, к «машине для жилья» Ле Корбюзье. Сходное развитие, хотя и в более медленном темпе, наблюдается в области прикладных искусств. Все больше распространяется отвращение к подделке, к фабричным луикаторзам и луисэзам. Требование добротности и удобства сменяет требование роскоши. При этом добротность смешивают с рыночной ценой материала (например, когда золото или серебро заменяют платиной); вещи драгоценные, переставая быть роскошными вещами, становятся лишь символом кошелька. От вещей хотят простоты, но не простоты художественной — свойственной классическому стилю, — а простоты, не ищущей искусства и только потому не противоречащей ему. Пожалуй, правда: только то, что еще не было искусством, может стать искусством в будущем; однако отказ от стилизации есть необходимое, но еще недостаточное условие для рождения целостного стиля. Целесообразность, вопреки мнению стольких наших современников, еще никогда не творила искусства и сама собой не слагалась в стиль. Оголенно-утилитарное здание и очищенные от украшений предметы обихода, как их все чаще предлагают нам, могут не оскорблять художественного чувства, но это еще не значит, что они его питают. Даже когда они ему льстят, — например, пропорциями и линиями современного автомобиля, — они от этого искусством не становятся. Существует красота машины: осязаемый результат интеллектуально совершенной математической выкладки; но красота еще не делает искусства — особенно такая красота. Удовлетворение, даваемое точностью расчета, может, входит в замысел архитектора (например, строителя готического собора), но не из нее одной этот замысел состоит. В искусстве есть не только разум, но и душа; целое в нем непостижимым образом предшествует частям; искусство есть живая целостность. Огромное строение и мельчайший узор получают свой смысл, свое оправдание, свое человеческое тепло из питающего их высшего духовного единства. Пока его нет, не будет ни архитектуры, ни прикладных искусств, ни сколько-нибудь Здоровых условий для жизни искусства вообще; и нельзя его заменить другим — техническим, рассудочным единством. В механической архитектуре, уже начавшей подчинять себе другие искусства, есть единообразие, которого не знал XIX век, но это единство стандарта, штампа (хотя бы в своем роде и совершенного) — не стиля. Стандарт Рационален; но только стиль одухотворен.
У Новалиса, в «Генрихе фон Офтердингене», есть трудно забываемая страница о домашней утвари старых времен и особом чувстве, которое она внушала людям. Средневековый быт, духовная его сущность открывались Новалису в недрах бережно хранимого Германией его времени провинциально-патриархального, семейно-замкнутого быта. В этом уходящем в незапамятную даль быту всякая, даже самая обыденная «вещь» была своему владельцу дорога не в силу рыночной цены или трезвой своей полезности, а благодаря обычаю, связанному с ней, месту ее в обиходе и преданиях семьи, индивидуальному облику, принадлежавшему ей искони или приданному ей временем. «Молчаливыми спутниками жизни» называет Новалис предметы скромной обстановки в жилище ландграфа, отца своего героя, и обозначение это незачем отводить на счет заранее готового романтического умиления. Слова эти правдивы не только по отношению к средневековому, но и ко всякому другому устойчивому, не рационализованному быту, северному больше, чем южному (не переставая быть верными и для юга). Весьма прочно держался такой быт в России, и многие черты его всем нам памятны. Лишь городская цивилизация искореняет постепенно живое отношение к вещам; конкретное чувство связи превращается в отвлеченно-юридическое знание о собственности; машинное и массовое производство стирает индивидуальность (привязаться же можно не к общему, а только к частному); принцип строгой целесообразности не оставляет места отклонениям, случайностям, всему тому, что кажется человеческим в вещах и за что человек только и может любовью, а не грубой похотью любить тленные, прислуживающие ему вещи.
Веками он согревал их собственным теплом, но, должно быть, есть в мире убыль этого тепла, раз они так заметно с некоторых пор похолодели. Нет спору: рационализированная мебель, посуда, механическое жилище последних лет удобнее, опрятней и даже отрадней для глаз, чем пухлые пуфы и пыльные плюши XIX века. Пусть брачное ложе уподобилось операционному столу и зубоврачебное кресло стало символом досуга и покоя; все равно, все, чего хотел от своей «обстановки» прежний человек, слилось для наших современников в образе комфорта . История этого слова отвечает ходу всемирной истории. Оно значило — утешение (Comforter в английской Библии — эпитет Св. Духа), стало значить — уют, а в нынешнем международном языке означает голое удобство. Только удобную, только целесообразную вещь можно пенить, но нельзя вдохнуть в нее жизнь, полюбить ее, очеловечить. Какой-нибудь громоздкий комод, о который мы в детстве стукались лбом, был нам мил, трогал нас своим уродством, мы с ним жили, мы сживались с ним. Но в современном доме из металла и стекла нужно не жить, а существовать и заниматься общеполезною работой… Прошлый век был безвкусен, и его художественный быт — не искусство, а подделка под искусство; однако и неудавшиеся попытки украшения придавали его изделиям душевное тепло. Новые вещи погружены в стерилизирующий раствор, где погибают зародыши болезни, но вместе с ними — и жизнь самих вещей. Различие тут переходит за пределы всякой эстетики — как и морали, — оно проникает вглубь, к источнику всяческой любви. Наше время запечатало источник и утверждает, что без любви возможно удобство и даже эстетическое созерцание; пусть так, но только из любви рождается искусство.
3
Гибель Рима проистекла не от силы варваров, а от ослабления духовных основ Империи и античной культуры. Гладиатор не заменил бы трагического актера, если бы не был утрачен смысл трагедии. Современный человек проклинает царство машин, но разве не он их создал и не он принес им в жертву лучшее свое достояние? Только в опустошенной душе и мог утвердиться мир бездушный, переполненный бездушными вещами. Только согласие, только пособничество человека может сделать пагубными для него создания его рук. Если современному искусству угрожают враждебные ему силы, то лишь потому, что в нем самом образовалась пустота и раскололась его живая целостность.
Искусство можно рассматривать как чистую форму; беда в том, что как чистую форму его нельзя создать. Без жажды поведать и сказаться, выразить или изобразить не бывает художественного творчества. Если под изображением разуметь одну лишь передачу внешнего мира, а передачу внутреннего назвать выражением, станет ясно, что кроме искусств изобразительных — живописи и скульптуры, драмы и эпоса — есть искусства, чуждые изображения, как архитектура, или такие, где (как в музыке и лирической поэзии) оно обречено на служебную и приниженную роль. К тому же и живопись, и скульптура бывают неизобразительными, чисто орнаментальными, тогда как выражение присутствует во всяком искусстве, хотя бы и в изобразительном, больше того: в самом изображении. Тем не менее живопись и скульптура, уже в силу присущих им технических средств, всегда тяготеют к передаче видимого мира, к изображению человеческого образа, человеческой жизни, природы, и поэтому для них, как для эпической и драматической литературы, человек и все, что относится к человеку, составляют не только духовное содержание (то, что немцы называют Gehalt), как для всех вообще искусств, но еще и «фабулу», «сюжет», т. е. содержание (Inhalt) в обычном смысле слова. Случается — особенно часто случалось в прошлом веке — живописи и скульптуре злоупотреблять этим своим родством с литературой и пользоваться ее средствами там, где они могли бы обойтись своими; но отрицание этого рода «литературщины» еще не означает, что выкачиванию человеческого содержания в искусстве можно предаваться безнаказанней, чем в литературе, или хотя бы что позволено не делать никакого различия между изображением кочана капусты и человеческого лица. Различия здесь можно требовать с не меньшим основанием, чем изменения замысла статуи в зависимости от того, исполняется ли она в бронзе, дереве или мраморе; предмет, по крайней мере, столь же важен, как материал, отрицание портретных, да и вообще предметных задач, превращение человеческого образа в мертвый объект живописных или скульптурных упражнений — такой же ущерб для самых этих искусств, как замена живого героя кукольным подставным лицом для драмы или для романа. В обоих случаях схематизация «фабулы», «сюжета» и предмета приводит к выветриванию духовного содержания.