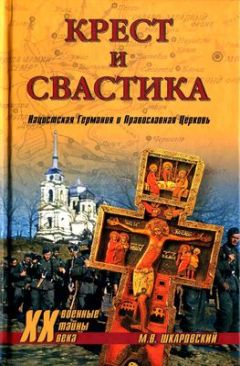Сергей Фирсов - Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.)
Создав иллюзию «ледяного покоя», обер-прокурор полагал, что это – панацея от надвигающихся потрясений. При таком отношении трудно было ожидать каких-либо инициатив от епархиальных преосвященных, приученных к безмолвию и выполнению распоряжений, исходивших из ведомства. Характерна история, приведенная учеником Победоносцева – известным юристом А. Ф. Кони. Сенатор А. А. Нарышкин пришел в один из приемных дней к обер-прокурору Святейшего Синода по каким-то своим делам и, не желая пользоваться привилегиями положения, стал в глубине приемной. «К. П. вышел к собравшимся в большом количестве просителям из светских и духовных лиц и, подойдя прежде всех к провинциальному архиерею, принял его благословение и спросил его, когда он думает ехать в свою епархию. „Да вот, ваше высокопревосходительство, хотел просить продления отпуска на некоторое время, чтобы продолжить лечение моего недуга у здешних врачей“. – „А вы бы, владыко, лучше ехали домой в свою епархию! Ну чего вам здесь оставаться! Ведь в карты-то играть и там можно“, – отрезал ему Победоносцев громко и при всех»[140].
Такое отношение к полностью зависимым архиереям поражало современников, видевших, с одной стороны, глубокую личную веру обер-прокурора, а с другой – его цинизм и скептицизм. Тот же Кони, вынужден был признаться, что становится в тупик перед «загадкой двоедушия Победоносцева», понимаемой им в смысле душевного раздвоения. Спустя несколько лет после смерти обер-прокурора, взявшись однажды перечитывать «Московский сборник», Кони увидел соответствие стиля книги и образа ее составителя. «Какая пестрая смесь возвышенных картин и высоких идей – с умышленною близорукостью и мертвящим набором бездушных слов!»[141] Человек чести и долга, Победоносцев, по мнению Кони, вместе с тем поддерживал нелепости, не признавал чужой совести и все мертвил своим дыханием.
Воспитанный по-европейски, на традициях римского права, обер-прокурор Святейшего Синода в течение всей своей жизни оставался почитателем Петра I, построившего империю на расколотом основании, уничтожившего однородность русской культуры и купившего плоды европейской цивилизации «ценой отступничества от священных традиций русского православия»[142]. Духовенство рассматривалось им лишь как помощник в выполнении этой задачи. Отсюда и его отношение к клирикам: почитая их сан, Победоносцев считал архиереев и священников «служащими» государства. А «служащие», чиновники должны быть прежде всего послушны властям, остальное – вторично. Однако именно на эту «вторичность» современники Победоносцева с годами стали обращать все больше внимания, полагая, что епископат не соответствует тем высоким задачам, которые призван решать. Чтобы понять, насколько верным было это мнение, необходимо коснуться вопроса о тогдашнем положении архиереев в «симфоническом» государстве.
Как известно, епископом мог быть только монах. По действовавшим в Российской империи законам монахи ограничивались в гражданских и государственных правах: не могли занимать светских должностей, без разрешения духовного начальства переменять место жительства, владеть движимым имуществом, делать духовные завещания и пользоваться правом наследования. Правда, пользоваться книгами и деньгами позволялось, как и торговать предметами собственного изготовления. Имели монахи и ряд привилегий: освобождение от податей и телесного наказания. Если монах хотел сложить с себя сан (по желанию и с разрешения начальства), то ему возвращались все права по происхождению, но с лишением чинов и званий, полученных до пострижения. В течение семи последующих лет бывший монах не имел права жениться, жить в столицах и приписываться к обществам в той губернии, где ранее монашествовал. Он также навсегда лишался права поступать на государственую службу. Однако случаи снятия сана были достаточно редки и абсолютное большинство монашеской братии оставалось верно однажды принятым обетам.
Архиереи должны были придерживаться тех же правил монашеского поведения, что и рядовые иноки. Единственным, что позволялось им «сверх меры» (как представителям духовной власти), было право завещать свою собственность. Уже к середине XIX столетия нередко стали звучать упреки монахам, якобы ведущим праздный образ жизни. Дошло до того, что «в 1869 г. Святейший Синод разослал епархиальным архиереям для обсуждения записку, в которой признавалось необходимым реформировать монастыри, с целью устранить на будущее время в обществе и литературе нарекания, направленные против монастырей»[143]. Главным основанием для таких нареканий служили указания на мирской образ жизни многих монастырей, имевших земли, лавки, промыслы. В записке планировалось ввести во всех монастырях общежитие, когда все необходимое монахи получали бы от монастыря и ничем не распоряжались бы на правах собственности. Итак, проблема «стяжания» даже официально не скрывалась, хотя метода решения ее у властей не было: среди православных обителей общежитийные монастыри составляли меньшинство.
Корпоративная замкнутость духовного сословия стояла на пути решения церковных проблем. К примеру, синодальный чиновник, близко знавший состояние монастырей в конце XIX века, полагал, что в монахи шли «только карьеристы 96-й пробы, драпируясь, конечно, в мантию спасения и благочестия»[144]. Это явное преувеличение – ведь спустя четверть века, в революционную эпоху строительства безбожного государства, многие «карьеристы» отдали свою жизнь за веру и Церковь. Однако мнение о монахах как о карьеристах было широко распространено в церковной и околоцерковной среде. Через эту призму часто смотрели и на епископат. Причем мнения людей разных политических убеждений в этом вопросе удивительным образом совпадали. Личная религиозность многих архиереев порой была не видна за внешней помпой, а вот их стремление походить на губернаторов и генерал-губернаторов бросалось в глаза. «И чем больше тянулись иерархи к власти, чем больше погружались в сферу общегосударственных дел, своеобразно ими понимаемых, чем более резкую грань проводили между церковными и государственными делами, тем дальше уходили от своей паствы, тем меньше были ей нужны, – полагал князь Жевахов. – Вот где источник нестроений в области церковной жизни России»[145].
В империи было много архиереев, считал князь, но среди них почти не было настоящих монахов, хотя первейшая задача епископа – поддержание иноческого духа как главной основы и опоры православия. Жевахов верно подметил основную болезнь церковного организма – слишком большую зависимость епископата от государственной власти. Вследствие этого недуга внимание акцентировалось преимущественно на политических, а не на пастырских задачах. Епископы, действительно, не всегда понимали различие между светскими и церковными делами, но обвинять их в этом нельзя: в них видели не столько духовных отцов, сколько государственных мужей, чиновников. Впрочем, эта сторона вопроса князем обходится. Его гневные филиппики направлены на критику недостоинств клира, а не на причины, способствовавшие проявлению этих многочисленных «недостоинств». Их список, впрочем, начали составлять задолго до Жевахова.
Тогда же некоторые пылкие священнослужители стали искать выхода в оздоровлении монашеской жизни. Одним из лидеров нового течения стал молодой архимандрит Антоний (Храповицкий). Он проповедовал, что «молодое светское монашество должно совершенно изменить течение нашей общественной и государственной жизни… Конечно, – цинично комментировал эти заявления о. Антония упоминавшийся уже А. Н. Львов, – это говорит ослепленное самолюбие и властолюбие, с одной стороны, и непроходимая глупость и нахальство нынешних монахов – с другой»[146]. Запись Львова – одно из первых упоминаний о феномене «ученого монашества», хотя автор и не употребляет еще этого словосочетания. Тем показательнее, что уже в следующей записи Львов резко критикует умственный уровень русских архиереев, находя его слишком невысоким: «В самом деле, есть много и очень много архиереев, которые решительно ничего не читают, которые везде и во всех случаях прикрываются только мантией своего архиерейского величия да внешнего благочестия»[147].
Косность духовенства (в том числе и архипастырей) ни для кого, включая Победоносцева, не была тайной. «Не помню, чтобы от нас загорались души… Но не было (за исключением) и дурных типов. Только дух в духовенстве начал угасать», – вспоминал те времена митрополит Вениамин (Федченков)[148]. Людьми, чуждыми культуре, живущими интересами желудка и зачастую эксплуатировавшими веру простого народа считал князь Жевахов братию любого монастыря, а особенно лавр. На вопрос, почему монастыри стали хиреть и утрачивать свой первоначальный облик и значение, князь отвечал, что их погубили «главным образом сами же епископы»[149].