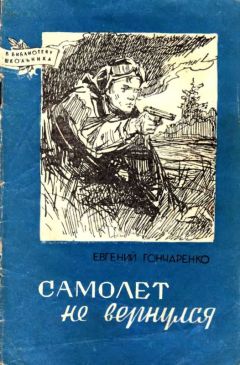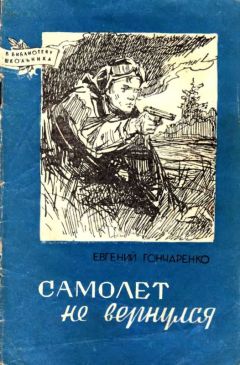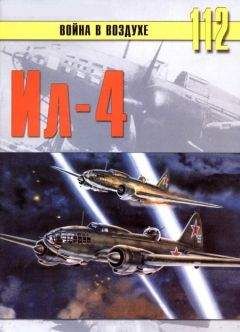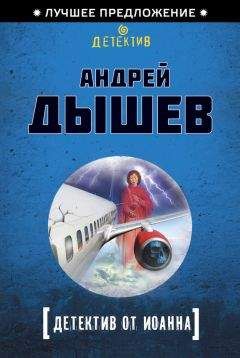Стивен Бэчелор - Что такое буддизм? Как жить по принципам Будды
Жизнь в корейском дзэнском монастыре строилась вокруг центрального понятия «группового духа». Здесь не было места для изнеженных привычек западного индивидуализма, таких как «потребность» иметь собственное пространство. «Если община решает пойти в ад, – мрачно сказал мне один монах, – ты тоже должен идти в ад». Независимо от вашей позиции в монастыре, вы вместе жили, ели и работали. В любое время монахов могли вызвать на какие-нибудь работы. Всем, от Кусана Сынима до самого молодого послушника, выдавали серпы для сбора ячменя или мотыги для прополки сорняков между рядами сои. Мы разгружали кучи горбатых терракотовых кровельных черепиц из грузовиков или, выстроившись в цепочку, вычерпывали ведрами русло реки после тайфуна. В первые морозы мы два дня перевозили на тачках пекинскую капусту с полей на монастырскую кухню, мыли и солили ее, оставив на ночь в общинной ванне; следующим утром полоскали в ледяной реке, а затем передавали ее мирянкам, чтобы они приготовили маринованное кимчи на зиму. А осенью, под ярким лазурным небом, мы забирались на деревья, чтобы собрать темно-красную хурму, и сушили ее, насадив на бамбуковые колышки.
Дзэнский монастырь был корейским конфуцианским обществом в миниатюре. Все покорно принимали и исполняли предписанные им роли, которые должны были меняться со временем, тем самым каждый поддерживал гармонию большего целого. Это контрастировало с феодальной структурой тибетского буддизма, где ламы, привилегированная духовная аристократия, кто жил и ел отдельно от обычных монахов, обладали почти абсолютной властью над своими учениками. Мне стало очевидно, что буддизм, по мере продвижения от одной азиатской страны к другой, приспосабливался не только к различным интеллектуальным культурам, но также и к различным социальным нормам.
...Дзэнский монастырь был корейским конфуцианским обществом в миниатюре. Мне стало очевидно, что буддизм, по мере продвижения от одной азиатской страны к другой, приспосабливался не только к различным интеллектуальным культурам, но также и к различным социальным нормам
Во время трехмесячных «свободных» периодов весны и осени, когда не было затворов, я распределял свое время между изучением классических текстов дзэн-буддизма и путешествиями в монастыри и хижины отшельников, часто в сопровождении Сонгиль в качестве проводника и переводчика, чтобы изучать страну и посещать известных учителей. Я также снова занялся фотографией. В Корее не считалось чем-то необычным или неподобающим для монаха или монахини, когда они занимались каким-либо искусством. Некоторые из самых одаренных в стране художников, поэтов и каллиграфов были монахами, которые посвящали оттачиванию своей манеры и стиля письма так много времени, как и своей медитации. Вместо распространенного в некоторых буддийских школах представления, что искусство отвлекает от пути к пробуждению, в дзэн его считают особой практикой, полностью совместимой с занятиями медитацией.
Когда сегодня я смотрю на сотни фотографий, сделанных в Корее, я ловлю себя на мысли, что они неплохо сделаны, но по большей части предсказуемо изображают классические «дзэнские» сюжеты: бамбук и сосны в снегу, монахи в полях, статуи Будды, отливающие красным в свете вечернего солнца. Важность возвращения к фотографии для меня заключалась не в качестве снимков, но в пробуждении эстетического чувства, которое дремало в течение многих лет, пока я был тибетским монахом. Теперь же я оказался в буддийской культуре, где высоко ценилась интеграция творческой энергии в практику Дхармы.
Под влиянием дзэна мой стиль письма стал более экспериментальным и ироничным. В отрывках, написанных в монастыре, которые были в конечном счете опубликованы под названием Верить, чтобы сомневаться, вместо тщательно выстроенного линейного изложения, я обращался к различным темам иносказательным, импрессионистским языком, переплетая анекдоты из своей жизни с анализом текстов, многочисленные цитаты с вымышленными диалогами, дзэнские рассказы с журнальными заметками. Отдавая предпочтение сомнению, а не вере, удивлению, а не уверенности, и вопросам, а не ответам, практика дзэна поощряла свободу моего воображения.
...Отдавая предпочтение сомнению, а не вере, удивлению, а не уверенности, и вопросам, а не ответам, практика дзэна поощряла свободу моего воображения.
Постепенно в монастырь тонкой струйкой прибыли и другие иностранцы: горстка американских и европейских последователей дзэна, два китайских монаха из Сингапура, пара бхиккху (монахов) из Шри-Ланки. Мы стали сплоченной группой из десяти или около того монахов, живущих в нашем корпусе в Мунсу Чоне, и четырех монахинь, ютившихся за рекой в их тесном помещении. Эти годы в Сунгвангса были самыми счастливыми в моей монашеской жизни. Я наслаждался созерцательным ритмом трехмесячных ретритов, проходивших два раза в год, утонченностью культуры и душевной теплотой корейцев, которые принимали нас как своих. Я испытывал радость от пешеходных прогулок по лесам в горах, где можно было мельком увидеть золотистых иволог и каждой весной наслаждаться дикими азалиями, а потом возвращаться домой в сумраке, когда дым ондоль – системы отопления полов – начинал клубами подниматься в воздух.
В 1983 году Сонгиль и я начали работу над книгой, в которой излагалось учение Кусана Сынима. Сонгиль переводила его лекции, затем я редактировал ее черновики. Мы проводили много часов вместе, многое переделывая, пока не получили версию, которая одновременно сохраняла голос нашего учителя и легко читалась на английском языке. В ходе этой работы мы также сблизились как друзья, и вскоре я стал ждать наших встреч с таким нетерпением, что это вызывало вопросы о продолжении моего монашеского призвания.
Иногда, даже посреди ретрита, более молодые корейские монахи меняли свою рясу на камуфляжную форму, забирались в грузовик и уезжали на целый день на военные учения. (Южная Корея была – и все еще технически остается – в состоянии войны с Северной Кореей.) Несмотря на их обет не убивать, буддийские монахи не освобождены от военной обязанности. Я встречал одного монаха, который обмотал указательный палец хирургической марлей, опустил его в масло, поджег, а затем поднес его Будде как свечу. Я знал и другого монаха, который отрубил себе топором все пальцы правой руки. Но они составляли исключение. Большинство монахов принимали свое положение призывников в запасе армии. А ее высшие чины, возможно, надеялись, что насельники современных монастырей могут сыграть такую же важную роль, какую сыграла поднятая мастером дзэн Сосаном армия монашеских ополченцев в поражении японской армии, вторгшейся в Корею в 1592 году.
Когда я спросил своего корейского друга «Стронгмэна» (мы, иностранцы, между собой давали корейским монахам прозвища по созвучию с их корейскими именами), не испытывает ли он мук совести от участия в государственной машине смерти, он посмотрел на меня и спросил с недоверием: «То есть ты не будешь сражаться за свою родину?» Никто прежде так прямо не ставил под сомнение мой само собой разумеющийся пацифизм. Даже когда я был ребенком, мысль об убийстве любого живого существа, не говоря уже о таком же, как я, человеке, казалась мне омерзительной. Мне казалось, что буддисты в особенности должны переживать то же самое. «Честно говоря, Стронгмэн, – сказал я, – нет. Я не буду». Он покачал головой в изумлении, затем замаршировал прочь с другими монахами-солдатами на учебные стрельбы и боевую подготовку, оставив непатриотичных людей носа томиться от жары на своих подушках.
В начале 1980-х Южная Корея начинала оправляться от катастрофы тридцатипятилетней японской оккупации, наступившей вскоре после разрушительной гражданской войны с коммунистическим Севером. Страной управлял военный диктатор Чон Ду Хван, который захватил власть в декабре 1979-го во время неразберихи после убийства Пак Чон Хи, другого военного диктатора, который правил с 1961 года. (Пак был жестоко застрелен в своем кабинете главой южнокорейской разведки.) И Чон и Пак были буддистами. В мае 1980-го, за год до того, как я приехал, Чон отправил парашютный десант, чтобы подавить народное восстание в Кванджу, в самом близком к нашему монастырю городе. В ходе операции, по самым скромным оценкам, были убиты двести гражданских лиц (цифры все еще оспариваются) и три тысячи ранены.
Хотя память об этом недавнем неудавшемся восстании должна была висеть тяжким грузом на сердцах монахов, в монастыре Сунгвангса эти события никогда не упоминались в нашем присутствии. Они в шутку называли Чона «Спрутом» (он был лысым и запускал руки во все дела), а его жену – «Шпателем» (из-за сильно – по корейским меркам – выступающего подбородка), но отказывались обсуждать свои более глубокие мысли и чувства о государственном устройстве их страны. Только присутствие Боп Чонг Сынима (известного писателя и диссидента, который в течение моего пребывания в Корее жил под домашним арестом в хижине отшельника в лесу выше монастыря) говорило о репрессивном политическом климате, в котором мы жили.