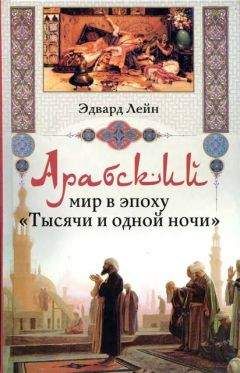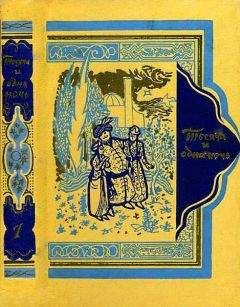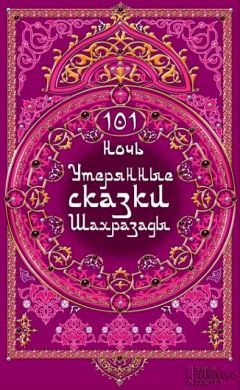Фёдор Степун - Бывшее и несбывшееся
Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Впервые побывавшая заграницей мать вернулась в восторге от Европы и решила, что философию правильнее всего изучать в Германии.
Посоветовавшись с доцентом московского университета Борисом Петровичем Вышеславцевым, я остановил свой выбор на Гейдельберге и, недолго думая, решил запросить ректора, не могу ли я в порядке исключения быть немедленно же принятым на философский факультет с аттестатом реального училища. Очевидно, моя твердая уверенность в своем праве на изучение философии произвела на чье–то чуткое ухо должное впечатление. Секретариат ответил согласием исполнить мою просьбу с условием, что я перед докторским экзаменом представлю дополнительное свидетельство о сдаче экзамена по латыни. Я был счастлив. В том, что я за четыре года университета с легкостью выучу латынь и, если понадобится, то и греческий, у меня не было никаких сомнений.
Хоть я и рад отъезду, сердце все же разрывается при мысли о разлуке с Людмилой. Нам надо непременно еще раз обо всем «по–настоящему поговорить». Но как это сделать? Она живет уже не у нас, а в своей семье. Мачеха всегда дома; главное же — ее стережет душевно больной и зло ревнующий ее ко мне брат. Несмотря на все трудности, дело все же устраивается. Мы прощаемся, т. е. выясняем, в связи с выяснением наших отношений, все мировые вопросы в запущенном саду на Кудринской–Садовой. Через покосившийся, полуразваленный сметенною с дорожек прелою листвою забор нам из беседки видны высокие, уже обнаженные деревья большого сада «Вдовьего дома». Над пресненски–грузинскими низинами в печально–свинцовой мгле тускло догорают красные полосы заката. «Ну, до свиданья, до весны!» Я целую Людмиле руку, она смущенно наклоняется над моим лбом. Это наш первый поцелуй…
В этом почтительном, хотя и горячем поцелуе на утренней заре моей жизни было что–то общее с тем поцелуем, которым в «Менуэте» Мопассана в осеннем парке на закате своих дней нежно обмениваются старичок в парике и его жеманная подруга с мушкой на щеке. Не думаю, чтобы мы с Людмилой представляли собою исключение. В наше время юношеская любовь была еще тиха и целомудренна.
Варшава. Быстро выйдя из вагона и сдав ручной багаж на хранение, я весело вскочил в первую приглянувшуюся мне пролетку. Моя просьба показать мне главные достопримечательности города (не остановиться в Варшаве я не мог: Людмила носила польскую фамилию, ее отец часто играл Шопена и я только что прочел «Без догмата» Сенкевича), а затем отвезти в хорошее кафе с музыкой — мне еще в Москве рассказывали, что Варшава богата совершенно иными кафе, чем Филиппов, или даже Сиу — весьма обрадовала сидевшего на козлах парня, сразу смекнувшего, что с легкомысленного безусого пана можно будет сорвать хорошую цену.
От первого знакомства с Варшавой в памяти осталось немного: скорее некая музыкальная тема, чем зрительный образ, связанный с ее достопримечательностями. Передать музыку словами почти невозможно. Поразило меня то, что вместе с тревожным ощущением прельстительно–любовной темы польской столицы в душе поднялась с неиспытанною до тех пор силою и боль первой разлуки с Людмилой.
Что осталось в глазах? Почти ничего: всего только туманы и бесконечные уличные фонари; даже смягченные уже на европейский лад красными и желтыми абажурами ресторанные лампы вспоминаются горящими не в ресторанном зале, которого перед глазами нет, а в сизо–мглистых сумерках печально вечереющего Лазенковского парка. Эту печаль — единую в небе, в блоковских стихах и в моей смятенной душе рвут в клочья никогда раньше не слышанные венгерские скрипки.
«Маршалковская» моего первого вечера в Европе (Варшава показалась мне Европой) до сих пор вспоминается самою светлою, оживленною и влекущею из всех улиц мира, что довелось впоследствии видеть, не исключая и ослепительных Елисейских Полей во время последней всемирной выставки 1937 года.
Поздно заснув в душном вагоне, я проснулся от кондукторского фонаря: «Через полчаса граница». Быстро нацепив воротник и кое–как завязав галстук, я поспешил в коридор, где уже царило то радостно–приподнятое и все же беспокойное настроение, которое в дни моей молодости во всех людях вызывало магическое слово «граница,». Вот и Торн. Долгожданная «заграница», вернее Европа, неожиданно просто и прозаично входит в образе сосредоточенно–деловитых и самоуверенно–отчетливых немецких чиновников. После быстрого и непридирчивого осмотра багажа, я независимо гуляю по чужой земле, по ярко освещенным, тщательно выметенным платформам Торна, среди размеченных соответственными надписями станционных зданий. Пути от Торна до Берлина, если не считать с трудом пересиливающей густой утренний туман — белой по черному фону — надписи: Schneidemuhl, не помню. Осталось только общее впечатление не русской разделанности земли, геометрической расчлененности пейзажа и заботливой устроенности жилья, станций, деревень, городов. Навсегда запечатлелся в мозгу лишь въезд в массивный, шумный, по всем направлениям перечерченный освещенными улицами, чернильно–лиловыи под дождем Берлин, к центральному вокзалу которого поезд долго несся многоэтажными облезлыми задворками, мимо многолюдно–унылых платформ с красно–желтыми циферблатами.
Получив от полицейского номерок, носильщик, не говоря худого слова, повел меня (никакого московского ряда и крика) к предназначенному мне судьбою вознице, — извозчиком его не назовешь. На высоких козлах допотопно–громоздкой кареты, запряженной куцой клячей под черной кожаной попоной, восседал, посасывая сигару, багровый сивоусый старик в помятом цилиндре и потертой ливрее с обшитым желтою тесьмою, вместо галуна, воротником.
Еле удостоив меня поклоном, старик медленно растормозил неизвестно для какой надобности заторможенную карету и, стегнув длинным английским кнутом свою перетруженную лошаденку, топотно затрусил по мокрому асфальту к рекомендованному мне отелю на Доротеенштрассе.
Музеи и памятники, которые я осматривал целый день, как–то не произвели на меня большого впечатления. Было, вероятно, около девяти вечера, когда, умывшись и принарядившись, я вполне самостоятельным джентельменом с непривычным ощущением довольно больших денег в кармане, вышел из отеля с намерением пройтись по знаменитой Фридрихштрассе и посидеть в отмеченном у Бедэкера звездочкой кафе «Бауер». Казалось бы, чего лучше. Иди, смотри, слушай, наслаждайся, мечтай — вся жизнь у тебя впереди. Вышло, однако, все совершенно иначе, чем ожидалось. На залитой витринными огнями многолюдной Фридрихштрассе, в тисках видимо усталой, куда–то спешащей и все же останавливающейся чуть ли не у каждого окна толпы, мне сразу стало как–то не по себе. От уныло–назойливых проституток, от презрительно–величественных портье у занавешанных входов в рестораны и варьете исходил какой–то нудный, бесстыжий ток. Что–то бесконечно жалкое чувствовалось в старых газетчиках, настойчиво выкрикивавших сенсационные заголовки ночных изданий и в опрятных старушках с никому не нужными, но все же почему–то покупаемыми букетиками мелких роз. Со щемящею тоскою в душе добрался я до своего кафе, посидел в нем с час и, с неизвестным мне до тех пор чувством покинутости и одиночества, вернулся в гостиницу.
После страшного ночного Берлина приветливый, утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией.
Веселый носильщик сразу же правильно оценивший мои финансы, быстро понес мои чемоданы в находившийся в двух шагах от вокзала «Баварский двор». Портье так же быстро и так же ни о чем не расспрашивая, назначил мне номер в третьем этаже, в который тут же меня и повел расторопный коридорный в желтой жилетке и зеленом фартуке.
Распахнув окно небольшой, но вполне благоустроенной комнаты, я, как на ладони, увидел перед собою весь Гейдельберг. Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнездился знаменитый Гейдельбергский замок со своею древнею круглою башнею. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным, горбатым мостом. По параллельной Неккару главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через новый мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесного города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора.
Конечно, я знал старую Москву, знал и историческое Подмосковье: Троицкую лавру, Марфино, село Коломенское; много раз бывали мы с братом в Останкине, дворец и парк которого остались в памяти занесенными глубокими снегами, бывали и в Кускове и в Косине, со святым озером, на дне которого, по преданию, звонят колокола, и тем не менее я только у открытого окна гейдельбергской гостиницы впервые ощутил мир не как текущую сквозь меня жизнь, а как стоящую передо мною историю.